
Спецпроект
Дневник киевлянки. Часть V
В июне 2015 года интернет-издание "ГОРДОН" начало серию публикаций из дневника Ирины Хорошуновой – художника-оформителя, коренной киевлянки, которая пережила оккупацию украинской столицы в годы Второй мировой войны. Этот документ – уникальное историческое свидетельство, не воспоминания, а описание событий в реальном времени. Редакция публикует дневник в те даты, когда его писала Хорошунова, которой в момент начала войны было 28 лет. Записи начинаются с 25 июня 1941 года.
6 марта 1943 г., суббота
С утра ничего. Я в библиотеке. Ничего не делаю. Мучительно борюсь с видениями и жду. Нюся и Элеонора Павловна приходят все время, чтобы одну не оставлять. После работы – на Андреевский. Там квартира стоит открытой. И снова в глаза та же картошка рассыпанная лезет. Валяется. Я ее и не убирала. Заперли парадную дверь. В Татьянину комнату дверь закрыта. Но и десяти минут нельзя быть дома. Там все осталось, как было, и вещи, и стены. А их нет. Скорее бежать отсюда! И снова мы идем к Элеоноре Павловне.
9 часов вечера.
Нюся уходит. Ей нельзя больше ждать. Элеонора Павловна лежит рядом со мною. Мне она достала снотворное. Но сна нет все равно. Ни сна, ни слез. Ничего нет, кроме судороги в сердце и безысходного отчаяния. Орион светит всю ночь прямо в глаза. Вот как опоздало для многих, а теперь и для моих наше освобождение! Боже мой, если бы я могла плакать! Но нет слез, только боль.
7 марта 1943 г., воскресенье
Мы говорили о творчестве, о музыке. Элеонора Павловна говорит о себе. Я впервые чувствую, какой большой музыкант Элеонора Павловна. И как хороша жизнь! Жизнь и творчество! Стараюсь не думать о том, что для меня конец и жизни, и творчеству. Но я заставляю себя думать о других, не думать о себе. И знаю, что все равно, погибнем мы или нет, другие, многие еще будут жить и творить. Вернутся наши люди. И тогда не будет так страшно. Только бы не убили их там в гестапо.
Степан сказал, что видел, как Таню с Шуркой вели по лестнице в гестапо. Про тетю ничего не знает
9 часов утра.
Нюси нет. А она уже давно должна была быть. Наконец она приходит. У нее какой-то странный, словно растерянный вид.
– Степан бежал из гестапо, – говорит она.
– Откуда вы знаете?
– Он был у меня.
Теперь все погибло. Степан бежал. Татьяну, Шурку и Лелю расстреляют. Я не раз слыхала от того же Степана, что если бежит виновник, с точки зрения немцев, его семью расстреливают без разговоров. Теперь конец.
Нюся рассказывает, что в шесть часов утра страшно кто-то застучал в квартиру. Вышел брат, вернулся и сказал: "Это Степан". Нюся вышла к нему. Их было двое – Степан и еще кто-то незнакомый. На Степане пальто и сапоги. Второй в рубахе только. Оба с окровавленными спинами. Загнанные, как звери. Они хотят немного отдохнуть. Но в квартире Нюси нельзя оставаться. Она покормила их, одела на второго пальто брата. Дала денег, хлеба и сала.
Степан сказал, что видел, как Таню с Шуркой вели по лестнице в гестапо. Про тетю ничего не знает. Спрашивал, где я. Говорил, что в их камере было двенадцать человек мужчин. Десять увезли ночью на расстрел, а их двоих били, по триста плетей получили они и должны были сказать о подпольной организации. Потом их оставили в камере. А они увидели, что решетка на окне надломлена и последним усилием выломали ее, вылезли, спустились по какой-то обрушивающейся стене с пятого этажа. И теперь должны где-то скрыться, потому что их ищут.
Нюся говорит, а я не понимаю. И знаю наверное, что жить больше нельзя. Нюся говорит, что условилась в половине пятого принести какие-нибудь документы Степану в проходной двор на Кузнечной. А я думаю, что он – подлец, потому что он бежал, чтобы спастись. А Татьяну и Шурку убьют. И я ничего не понимаю. Я даже не понимаю, что за ними могут следить, и что Нюсю тоже могут забрать. Не понимаю, что Нюся волнуется: она завернула хлеб Степану в газету, на которой крупными буквами написана моя фамилия. Я ее вчера принесла из библиотеки.
Полное бессилие и беспомощность. Ни оружия, ни связей. Ничего. А Элеонора Павловна не знает, что делать со мной
Нюся уходит. Ее мать в ужасном состоянии. Она ждет, что их всех заберут. Через полчаса после ухода Степана дворник принес им на подпись бумагу о том, что они у себя никого не скрывают. Дворнику объявлено, что из гестапо этой ночью бежали два следователя и их ищут.
Нюся ушла. А я мечусь по комнате с одной мыслью: "Их убьют!" Что делать? Как спасти их? Может быть, пойти умолять Бенцинга помочь? Я хочу идти в гестапо, в полицию, к Бенцингу. Умолять, стать перед ним на колени, или хочу убить его, каждого из немцев. Я не знаю, что я собираюсь делать, но я должна идти, а идти некуда и не к кому.
Полное бессилие и беспомощность. Ни оружия, ни связей. Ничего. А Элеонора Павловна не знает, что делать со мной. Она просит и приказывает, и от имени Нюси просит подождать только двадцать минут, пока она пойдет к Нюсе. И Нюся скажет, что делать мне. А я не хочу ждать. Тогда Элеонора Павловна просит именем Тани и Шурки, и Нюси. Просит подождать, не выходить. Потом берет с меня слово, что я дождусь ее. Она бежит за Нюсей.
 Хорошунова: И сердце сводит судорога. И шевелится земля и песок Бабьего Яра от полуживых, задыхающихся Татьяны, Шурки, Лели. И других. Фото: archives.gov.ua
Хорошунова: И сердце сводит судорога. И шевелится земля и песок Бабьего Яра от полуживых, задыхающихся Татьяны, Шурки, Лели. И других. Фото: archives.gov.ua
А я ждать не могу, но что я собираюсь делать – не знаю, совсем не знаю.
Минуты, как часы, как вечность. Перед глазами неотступно страшное видение из трех идущих на расстрел. Страшно выражение их лиц, как у тех евреев, что шли в Бабий Яр.
И судорога в сердце совершенно нестерпимая.
Не двадцать минут прошло, а двадцать раскаленных часов, пока прибежали Нюся и Элеонора Павловна.
Нюся говорит:
– Что вы собираетесь делать? Куда идти? Все равно поздно и Степан не виноват. Таню и Шурку вчера вывезли в Бабий Яр. Степан говорит, что они расстреляны. Только я не хотела говорить.
Элеонора Павловна идет на кладбище. Так я просила. Я тоже с нею. Это, чтобы ушло время до половины пятого. Тогда я понесу документы Степану. Нюся собралась сама идти с ними, но не могу я допустить, чтобы ее забрали. А мне ведь все равно уже больше не жить.
В своем отчаянии я в первую минуту не подумала, что ведь и ей грозит смертельная опасность из-за всех нас. На кладбище холодно и тихо. Здесь мертвые спят давно и ничего не чувствуют. А в Бабьем Яру земля не остыла еще. А может быть, их зарыли полуживыми? Ведь на детей они не тратят пуль! И мозги сводит судорога. И сердце сводит судорога. И шевелится земля и песок Бабьего Яра от полуживых, задыхающихся Татьяны, Шурки, Лели. И других. Безумие подбирается и давит сзади на мозг.
Прошел час, второй. Совсем темно. Мы ждем, ходим, стоим. Восемь часов вечера. Степана нет. Он не пришел
Половина пятого.
Я иду вниз по Кузнечной, по правой стороне к 24-му номеру. Нюся и Элеонора Павловна на другой стороне. Они следят за мною, чтобы знать, если меня заберут. Под рукой у Нюси пила для резки дров. Это она ушла из дому под предлогом необходимости отнести пилу. С матерью ее плохо. Она ждет гестапо, боится, что за Степаном следили.
Вхожу во двор дома номер 24г. Первый двор, второй, третий. Степана нет. Из всех дверей чудятся мне гестаповские глаза. Прошла раз – нет его. Вышла. Нюся и Элеонора Павловна ходят по другой стороне улицы. Еще раз прохожу три двора. Жду. Степана нет. Снова выхожу, снова вхожу. Нет его. Иду за угол. Нет. Уже Элеонора Павловна и Нюся на этой стороне. Уже мы вместе входим во двор. Прошел час, второй. Совсем темно. Мы ждем, ходим, стоим. Восемь часов вечера. Степана нет. Он не пришел.
Он хотел идти на Бабий Яр. Зачем? К Тане? К Шурке? Он сказал, что пойдет к верным людям. Кто они? Где? Что с того, что вокруг жизнь идет своим чередом? Что ночь и Орион? Шевелится Бабий Яр окровавленным песком и лица их трех с глазами умерших. Это безумие. Оно сильнее меня. И надо ли мне с ним бороться?
8 марта 1943 г., понедельник
Сегодня день работницы. Так странно, что я вспомнила и вспоминаю этот день работницы. В прошлом году мы его вместе вспоминали. А в этом году вместо дня работницы – Бабий Яр.
Я определенно схожу с ума. Другие, наверное, плакали бы, кричали. А я молчу, потому что слез нет, и вокруг люди. Нет, не потому вовсе. Никаких людей нет. Все мне просто кажется. Есть песок Бабьего Яра, которым их засыпали.
Одни смотрят на меня глазами побитых собак. Это те, кому жалко. А другие, собственно говоря, все вокруг, заняты своими делами. Они ничего не знают.
4 мая 1943 г., вторник
У меня теперь новый счет параллельно со старым. Шестьдесят дней. Два месяца нет моих. Ожидание делается нестерпимым. Действительно, как говорит Болдырев, нужно обладать железной силой воли, чтобы выносить это ожидание. Мне удается это только благодаря страшному нервному напряжению и какому-то безразличию ко всему одновременно. Состояние непонятное, временами страшное, но спасительное.
Вот сегодня я снова начала писать. Пишу на листочках, которые прячу на работе, чтобы не нашли в случае моего ареста. Мои друзья не послушали меня, не сожгли записки, а зарыли в сарае под большим домом. Я лежу в библиотеке в своей комнате под столом у двери. Так меня не видно из-за стекла, и все думают, что я вышла. О том, что вот так часами лежу на полу, знает только Нюся и, возможно, Елена Федоровна.
Вот уже месяц, как я вернулась в библиотеку. Хроника несложная, но страшная. С 7 на 8 марта в нашей квартире была засада. Ждали Степана. Нюся меня не пустила туда, и я снова не попала в лапы гестаповцев. Квартиру 8-го вечером запечатали, а пришла я туда через полчаса после того, как гестаповцы ушли и спрашивали, где я. Я перестала быть "квартиранткой". На нашей парадной двери была прикреплена бумага с надписью чем-то красным: "Квартира конфискована гестапо. Комиссар гестапо. И украинская фамилия.
Потом меня хорошо скрывали в течение трех недель. В это время полицейские разыскивали меня в библиотеке. Говорят, Бенцинг их выгнал. Сказал, что ничего обо мне и моем местопребывании ему неизвестно. Что нечего им в библиотеку приходить. В эти же дни кто-то принес сообщение, что Степана убили. Прошло три недели, и я вышла из своего убежища.
За это время Нюся разыскивала N по оставленному им адресу, чтобы мне уйти из Киева к партизанам. Но он был на той стороне, а больше ни с кем он меня не связал. Потом посылали письмо Илье Сидоровичу. Рассчитывали, что он связан с нашими. Совсем меня собрали на уход из города. Но оказалось, что идти некуда. Илья Сидорович ничего не ответил. Идти же просто куда глаза глядят в состоянии почти помешательства, с температурой 38 не могла я. Так и решили ждать, что будет. Потом разыскивать меня перестали. В библиотеке, спасибо им, сказали, что я была в отпуску. И вот я работаю снова. Вернее, лежу на полу под столом и думаю свою тяжкую думу.
Да, только благодаря совершенно самоотверженной помощи друзей моих, ставших мне самыми родными и близкими людьми, осталась я жить
Очевидно, не судьба мне была погибнуть вместе со своей семьей. В последний раз, когда за мною в библиотеку явились полицейские, я должна была попробовать выйти на работу. Но все что-то задерживало нас. Я хотела скорее идти, а Элеонора Павловна настояла на том, чтобы я поела. Вышли с опозданием минут на 35-40. Нюся ждала нас на углу бульвара Шевченко и уже волновалась. Передала меня ей Элеонора Павловна (они меня ни на минуту не оставляли). Пошли в библиотеку. А там нас, как увидела Луиза Карловна, замахала руками:
 Вид на Днепр справа от Козловской больницы. Фотография сделана в годы оккупации Киева Фото: Reibert / Livejournal
Вид на Днепр справа от Козловской больницы. Фотография сделана в годы оккупации Киева Фото: Reibert / Livejournal
– Скорее уходите, за Хорошуновой только что приходили!
И так в который раз я опоздала на смерть.
Рукою Нюси и Элеоноры Павловны несколько раз увела меня судьба от смерти.
Потом была я несколько раз в нашей запечатанной гестаповцами квартире. На всех углах дома стояли мои друзья. А я открывала запечатанные двери и пыталась найти забитое Степаном под полом оружие. Не нашла его, хотя во многих местах срывала плинтусы и доски пола. Не было ли его там или не нашла я, не знаю. Как я от абсолютной уверенности в смерти их перешла к надежде на то, что живы они, – не знаю.
Живу я у Нюси теперь. Она и Элеонора Павловна вот уже два месяца оставляют меня только на работе, но отводят меня туда и обратно. Нюсе я обязана тем, что мысль о самоубийстве все меньше занимает меня. Она права. Нужно погибать достойно, с пользой для дела, которое для нас дороже всего. И идти нужно туда, где опаснее всего.
Ничего геройского нет в том, что я осталась жить. И настолько мне тяжело выносить мысль о погибших, что жалею о том, что я осталась. Быть может, и до победы нашей доживу. Хотя эта мысль сейчас живет где-то далеко, далеко от меня.
Но в этой страшной, непостижимой трагедии узнала я самое дорогое, что может быть у человека. Это – ценность человеческого отношения, ценность товарищества, силу дружбы, которая вырвала меня из смерти. Да, только благодаря совершенно самоотверженной помощи друзей моих, ставших мне самыми родными и близкими людьми, осталась я жить. Не побоялись они смертельной опасности, которая угрожала им. Не оставили меня в такое страшное время. Кто знает, сколько придется мне еще прожить. Удастся ли дописать до конца страшную летопись чудовищной войны-трагедии?
Но наряду со страстным желанием скорейшей победы нашего народа, наряду с нестерпимым желанием того, чтобы остались в живых мои Татьяна, Шурка, Леля, наряду с этим моим таким же страстным желанием стало теперь желание жизни и счастья Нюсе, Элеоноре Павловне, моим Андреевским друзьям и многим другим.
Но ужас в нашей семье – еще не весь ужас. Семью Воробьевой забрали, и судьба их так же неизвестна, как и всех, кого забирает гестапо. И еще рассказали мне, как погиб муж Марии Ивановны. Мы знали, что он умер. Проводили его, но никто не знал, что, будучи крещенным евреем, он все время боялся доноса и медосмотра на работе. И вот они случайно услышали, как сосед по квартире сказал, что он сообщил об Юлии Ильиче на работе. И в ночь перед тем, как был назначен медосмотр, Мария Ивановна своими руками дала мужу яд.
Некоторые добропорядочные шефы-немцы предупредили свою молодежь. Есть начальники, которые отпустили молодежь по домам. И еще сказали начальники, что защита в этот раз невозможна
Труднее всего в годовщины. Вчера – два месяца, как их нет, а три года Шурке. Послезавтра именины мамы. Потрясение так сильно, что все самое главное, общее как-то отодвинулось и подчас не доходит до сознания. Правда, что никаких сообщений о значительных событиях на фронте не было ни в газетах, ни по радио, последнее время совсем затишье.
Больше же всего говорят сейчас о партизанах. Немцы борются со все растущим движением самыми ужасными средствами. Они стирают села с лица земли, сжигают их вместе с населением. Они бросают штыками в огонь пытающихся бежать. Сгорают все – дети, женщины, старики. Но чем больше жгут, тем больше партизан. Плохие вести из Макарова. Там сожгли соседние села Кодру и Забуянь. В Кодре сгорели больница и школа. Ничего не известно о Юре Столбунове. Удалось ли ему уйти? Не расстреляли ли его?
В субботу вывесили приказ о мобилизации молодежи обоих полов 1922, 1923, 1924 и 1925 годов рождения.
Ждали приказа давно. Принимали меры. Некоторые добропорядочные шефы-немцы предупредили свою молодежь. Есть начальники, которые отпустили молодежь по домам. Сделано под видом прощания с родными. На деле же все знают, что никто не вернется. И еще сказали начальники, что защита в этот раз невозможна.
Не могу ни вспомнить, что было вообще за пределами моей трагедии, ни заинтересоваться чем-либо. Только каждую минуту жду, что должны прийти Леля, Татьяна и Шурка. И хотя все время страшная мысль о том, что они могут не вернуться, не оставляет меня ни на минуту, все равно жду их. И это теперь главная, ни на секунду не уходящая мысль.
13 мая 1943 г., четверг
В последние дни город взволнован налетами самолетов и несколькими бомбами, брошенными на железнодорожные пути и в некоторых местах в городе. Были эти налеты 8-го и 10-го числа. Были убитые, только мы не знаем, кто именно. Одна бомба восьмого числа упала на оперный театр, пробила купол, пролетела мимо люстры и шлепнулась в подвал в песок, не разорвавшись. Попали и в мадьярские казармы.
Слухов о налетах много. Кто прилетал? Кого бомбили? И количество жертв все росло, чем больше было слухов.
17 мая 1943 г., понедельник
11 часов вечера.
Итак, неделя со времени налета. Сразу после налета появились слухи о листовках. Одни говорили, что в листовках наши предупреждают население о налетах, которые состоятся 12-го и 15 мая. В других – 13-го и 15-го. В третьих, что налеты лишь начнутся с субботы, то есть с 15-го. В-четвертых, говорится будто бы о будущих налетах, и говорится о том, что участники налетов заранее преклоняются перед будущими жертвами, но избежать их не могут, так как в борьбе за освобождение Украины жертвы неизбежны.
Пока же тихо, хотя на улице шумят ветер и машины. После вчерашней нестерпимой жары сегодня утром ледяной холод. Сейчас ветер разогнал тучи. Потеплело. Определенно климат у нас теперь резко континентальный. О наших нет сейчас у меня никаких сведений. Где они? Немецкая газета сегодня совсем пустая. Бьются, судя по ней, на Кубани.
1 час ночи.
О весеннем наступлении поговорили, тем временем весна окончилась. Говорят много о газах. Говорят и о мире. Вообще, все словно замерло. И только налеты служат пищей для разговоров и толков. Из газет ничего извлечь нельзя. Неофициальные сведения – что Харьков снова взят большевиками или накануне этого. Партизаны по-прежнему в силе. Села горят. Только в эти дни об этом меньше разговоров.
3 часа ночи.
Тихо. И сегодня налета нет.
24 мая 1943 г., понедельник
Две недели с момента последнего налета. Больше налетов не было. Теперь уже люди перестали о них говорить. Только в разговорах и планах на будущее добавляют: если все будет благополучно.
Горит Иванков. Оттуда после трагического путешествия в прошлый понедельник пришла Дунечка. Она отправилась менять в одно из сел возле Иванкова. В самом селе партизан нет. Но нет и немцев. Партизаны из соседних сел запретили крестьянам сносить молоко в сливные пункты. В город селяне не ходят. Боятся немцев и полицейских. И с нетерпением ждут к себе горожан "обменщиков". И обменяла Дунечка свои вещи блестяще, была очень довольна. Но вдруг базар окружили немцы на машинах с пулеметами, винтовками и украинскими полицейскими. При попытке разбежаться убили трех человек, нескольких ранили.
Потом на подводах и машинах несколько раз обозами свозили продукты в Иванков. "Обменщики" добрались домой ободранные, как липки. Рыбы на базы рыбаки сверху не привозят. Только рассказы о партизанах вместо рыбы. Там у них и аэродром свой есть, говорят, и регулярное почтовое сообщение с Союзом. И снабжение оттуда боеприпасами и продуктами.
А мы слухами живем.
26 мая 1943 г., среда
Сегодня Дунечка идет в тюрьму с передачей. Потом придет сюда. Скорее всего, их там нет. Напрасно волнуюсь сегодня. В полиции, куда я решилась все-таки пойти, следователь сказал, что дело серьезное, чтобы я не делала никаких попыток искать, что и меня заберут. Взяли с меня подписку о невыезде из города. Но адреса моего не спросили. Не искать можно до известного предела. И если они в тюрьме?
Не верю ни во что хорошее и надежду теряю. В списках высланных в Германию их нет. На Сырце – раньше не было. Не дай бог туда попадут. Там страшный лагерь. Бьют и убивают. Стерегут немцы с собаками-зверьми, а вокруг проволока в три ряда и ток через нее пропущен. О Шурке – ничего. Дом на Белицкой – управский с детьми школьного возраста. Снова никаких сведений о тюремном детдоме. В моей комнате на Андреевском свет яркий каждый вечер. Там столярная мастерская. Комнаты Татьяны забиты, хотя оттуда все уже вывезли. Разграбили. Кто-то видел женщину на улице в Татьянином платье. Во дворе запустение. И пустой дом. Немцы теперь хозяева. Во флигеле, говорят, казино будет с выходом в сад. А под горой – бетонированное бомбоубежище должно быть.
Все проходит. И сломалось, должно быть, окончательно. Мне лучше. Там осталась бы – хуже было бы. И Днепр далеко теперь. А он красивый! Вчера такой серый и розовый, словно посеребренный был после дождей этих дней. И город умытый. Зелень буйная в этом году. Посмотришь издали на Днепр, на город, словно и не происходит ничего. По мосту поезда несутся. И дали розовые, мглистые. Тянет к Днепру, да посмотришь – бежать только, чтобы не вспоминать.
Ничего не знаю о том, продолжаются ли теперь аресты. Знаю, что в селах страшно. А здесь есть партийцы, которые живы. О тех, кого забрало гестапо, никаких известий
Вторая у нас весна немецкая. Ассимилировалась наша публика. Разговоры мимические почти совсем исчезли. Процветаем. Работают четырехклассные школы. И даже собираются снова открыть если не консерваторию, то среднюю музшколу. Мои музыканты готовятся к этому событию и ругают составленные учебные планы. Нюся в белом халате, как врач или повар, приводит в христианский вид библиотеку. В нее привезли и свалили библиотеку хореографической школы. Элеонора Павловна работает с утра до вечера. Лекции, репетиции, бесчисленные разучивания, подготовка всевозможных концертов. Готовится опера Лысенко "Ноктюрн", вечер романсов Танеева (для избранных), русская музыка для показа интересующимся немцам, концерт из произведений Чайковского для горуправы. И еще, и еще. Всего даже не знаю. Пребывает теперь Элеонора Павловна на "общественном" питании. У них теперь в консерватории столовая с небезнадежно плохими картофельными обедами.
Сейчас уже половина одиннадцатого. Дунечки все нет. Администрация ни о чем меня не спрашивает. Только неофициально интересуется, нет ли сведений. Многие понимают, что с каждым теперь может случиться подобное. Ничего не знаю о том, продолжаются ли теперь аресты. Знаю, что в селах страшно. А здесь есть партийцы, которые живы. О тех, кого забрало гестапо, никаких известий. Семья Воробьевой исчезла бесследно, как Шура и ее семья, как Ф.М., как мои.
28 мая 1943 г., пятница
Все возможности узнать что-либо сейчас разлетелись. Полицейский, что работал в лагере на Сырце, отослан на партизан и не вернулся. Это была единственная связь с Сырецким лагерем. Хорошо, что их там нет, потому что о лагере рассказывают ужасы. Два месяца назад их там не было. Сейчас – неизвестно.
 На снимке подростки, которые во время оккупации трудились на Киевском железнодорожном ремонтном заводе. Фото: RVM (Ittenbach)
На снимке подростки, которые во время оккупации трудились на Киевском железнодорожном ремонтном заводе. Фото: RVM (Ittenbach)
Из тюрьмы Дуничка вернулась ни с чем. Там с передачами много народа. Все ищут своих. Впускают во двор. Немец с переводчицей проверяет списки. По спискам принимают передачи. А наших там нет. Еще раз подтвердили, что политических нет в тюрьме. Такая страшная судьба семьи.
Нигде никаких детских домов и яслей тюремных нет. Так развалились последние надежды на сведения. Остается ждать без всякой надежды. И все чаще говорят со слов тех, кто имеет отношение к гестапо, что их нет уже в живых.
Можно ли словами передать отчаяние и безысходность, которые определяют теперь мое существование? Живу теперь далеко от Днепра, от Андреевского спуска. Получилось так, что управдом в доме, где живет Нюся, оказался хорошим человеком. Нюся ему прямо сказала о том, что произошло с моей семьей. И он поселил меня в пустую квартиру, которая находится на том же этаже, где и Нюся. Помогли мне перетащить вещи из Лелиной комнаты, старый диван и два кресла из моей. Но ночевать там одна не могу, потому что лишь закрою глаза, так немедленно подступают видения их, зарытых живыми, и сыплется, и сыплется окровавленный песок. И я начинаю кричать. Потому Нюся не оставляет меня одну в квартире. Ночую у них. А у себя бываю только, когда у меня урок русского языка, которому учу немца.
Так сложно объяснять, как я от полной уверенности в том, что они убиты, перешла к подсознательной надежде, что они живы. Наверное, так устроен человек, что всегда на что-то надеется.
Логан почти сразу сказал, что ненавидит фашизм и фашистов, что Гитлер – это "идиотская голова", и что он ведет их нацию к гибели
А о Логане я еще не писала. Случилось же это две недели назад. В библиотеке, когда я была в своей комнате. Вдруг пробежали и сказали:
– Вас спрашивает немецкий военный.
"Вот и конец мне", – подумала я. Но когда вышла в коридор… возле комнаты Бенцинга, увидела офицера с петлицами какой-то незнакомой мне части войск. Лицо его показалось мне интеллигентным. Оказалось, что его прислала ко мне Наталия Георгиевна, с которой я работала весной прошлого года в кукольной мастерской. Она еще в прошлом году уехала к родственникам в Ровно. Там она как-то познакомилась с Логаном и прислала его ко мне учить русский язык.
Первое мое побуждение было, конечно, отказаться, тем более, что совсем почти не знаю немецкого языка. Но немец вдруг очень обрадовался этому. Говорит:
– Это же хорошо. Будете говорить по-русски, я скорее буду его учить.
Сразу не дала ему ответа. А вечером поговорили с Нюсей и Элеонорой Павловной и решили, что, быть может, это как-то отвлечет меня от моего теперешнего состояния. Так начались эти занятия, вместе с Нюсей.
В первый же урок Логан рассказал о себе. Он, Вольфганг Логан, сын немца, убежденного монархиста. Семья его отца эмигрировала из фашистской Германии в Америку. Брат Логана в концлагере в нынешней Германии. У него самого жена и трое детей, старшему из которых 6 лет. Сам Логан был мобилизован в гитлеровскую армию, но ничего не успел навоевать, так как во Франции был ранен: пуля пробила ему грудь в одном сантиметре от сердца. Лежал в госпитале в Париже, и с благоговением говорит о Франции и французах. Сейчас он служит в нестроевых частях.
Я решила его учить по однотомнику Александра Блока из Малой "Библиотеки поэта". Читаем с ним "Скифов". Я готовлю перед уроком подстрочный перевод с помощью Нюси и словарей. Но пока у нас больше разговоров, как и с другими немцами, какой есть Советский Союз и что такое советские люди. А я пока все мучаюсь, как сказать Логану, что с моей семьей и какой, очевидно, для него риск иметь дело с нами. Правда, он почти сразу сказал, что ненавидит фашизм и фашистов, что Гитлер – это "идиотская голова", и что он ведет их нацию к гибели.
– Мы своею кровью заплатим за все, что сделали на вашей земле, – сказал Логан.
Вот такие дела.
2 июня 1943 г., вторник
Завтра три месяца. Через двадцать дней – два года войны. Годовщины безысходные.
Дни наши пустые, безсобытные. Газеты – можно их не читать. И все говорят: готовится что-то. Советское радио сообщает о немецких укреплениях, так как линии Зигфрица по всему фронту. И больше ничего не удалось послушать.
Временами нестерпимо совсем. Дни такие длинные, словно их заколдовал кто-то. И тепла настоящего нет, все дожди, даже град. Под моим библиотечным окном огород и ребятишки. Все Шурку напоминает.
18 июня 1943 г., суббота
Время идет медленно в днях, а вместе проходит очень быстро. Уже три с половиной месяца. И новости у меня есть, и нет их. Третьего числа, в трехмесячную дату, встретила на улице следователя из полиции, у которого была в апреле в поисках своих. Он сам остановил меня на улице.
– Дело окончено, – сказал он. – И хотя никто из семьи не виноват, но немцы считают, что если кто-нибудь один виновен, то нужно изолировать остальных.
– Очень серьезное дело, – сказал он (это я и без него знаю). – Не искать, не пробовать узнавать что-либо. Это бесполезно. И трижды повторил: "Не рекомендую!" И так глупо мы устроены, что хотя готова к этому давно, все равно снова, как обухом по голове. Нечего ждать. И все мои поиски бессмысленны. Только отчаяние.
Третьего дня публиковались сообщения о том, сколько взято укрепленных сел, бункеров и вооружения. Называется это "борьбой с тыловыми бандами".
Села горят. А немцы боятся из села в село через пять километров перейти. Молодцы наши партизаны! Только они сейчас единственный источник нашего оптимизма. Ведь мы хоть и знаем, что все равно наши победят, а сами дожить не надеемся. Сколько раз ждали уже и все напрасно. Только всякий раз, когда ждут наших, осторожность забудут и конец. Гибнут так, как мои погибли.
А мы ждем. И, как всегда, ничего не знаем.
8 июля 1943 года, четверг
Вчера был день Лелиного рождения. На Житомирской, на Андреевском вспоминали. И хорошо это, и плохо. В такие дни тяжелее. И так все складывается, что даты подчеркиваются. В прошлом месяце третьего числа встретила следователя из полиции. Этого третьего Логан был в гестапо, спрашивал. Ему сказали, что дело 3 марта весьма известно и серьезно. Спрашивать о нем никому нельзя. То, что делает гестапо, обнародованию не подлежит. Что сделано с семьей, неизвестно. Думай, что хочешь. Надейся, если можешь. Уговаривает меня, что нужно жить. Что нужно надеяться.
23-го утром была на Сырце. Убеждена, что нет их здесь, но пока в этом не убедишься, все равно не успокоишься.
Я остановилась. Навстречу по шоссе бежала женщина. Она крикнула мне: "Не останавливайтесь, а то застрелят!"
К лагерю, сказали мне, нужно идти мимо еврейского кладбища, через Бабий Яр. Там дорога на Сырец и много людей ходит. Так сказали. А от самого дома бывшего партийного образования — никого. Восьмой час утра. Погода ясная, безоблачная. Солнце жжет. И никого нигде. На бывшем садоводстве немецкие надписи: территория занята УСМА. Это немецкое пароходное общество. Дальше еврейское кладбище. Стена стоит. Не видно, чтобы кто-нибудь брал памятники, хотя в газете уже с месяц печатается обращение к желающим взять с еврейского кладбища бесплатно памятники и ограды. Но берет ли их кто-нибудь и брал ли? Территория кладбища тоже занята УСМА. Вход строго воспрещен. И нигде, ни на дороге, ни на кладбище, ни одной живой души. Если бы не солнце и птицы, было бы совсем жутко. Следов еврейского погребального шествия нет больше. Груды паспортов убрали. Дорога пыльная и пустая.
За кладбищем огороды. Там две женщины и мужчина работают. А дальше снова никого. Дорога спускается в яр. Перед яром доска с надписью: "Запрещенная зона. Ходить строго воспрещается. Стреляют без предупреждения".
А мне сказали, что сюда нужно идти. Но стоять тем более нельзя. Спускаюсь в яр. Там песчаная дорога с массой следов. И снова карабкается почти отвесно вверх. Яр изгибается и тянется почти от русского кладбища вдоль стены еврейского. Откосы его покрыты травой. На дне какая-то кирпичная кладка поперек его. Здесь возле дороги никаких следов расстрелов и засыпанных людей. Дальше за поворотом песчаные откосы. Туда тянет посмотреть. Но жутко. И остановиться нельзя. Дорога взобралась отвесно вверх. За нею снова те же надписи. Тишина. Солнечно, ясно, жарко. Над яром не слышно птиц. И тихо до жути. Может быть, еще оттого, что стреляют без предупреждения. И мучительно хочется разглядеть место расстрелов. Каждую ночь, может быть, и в эту ночь, туда спускались люди. В последний раз оглядываюсь на песчаные откосы.
Дорога выходит на шоссе. Оно огибает какие-то строения, стоящие далеко в глубине. А вдоль шоссе проволочная ограда в два ряда. Это лагерь. Постройки настолько далеко от проволоки, что рассмотреть что-либо или кого-либо невозможно. По верху наружного края проволочного заграждения шнур электрический на фарфоровых изоляторах. Я остановилась. Навстречу по шоссе бежала женщина. Она крикнула мне:
— Не останавливайтесь, а то застрелят!
Побежала вдоль огорожи. Я – за ней. Она кричала в пустое пространство лагеря:
— Девочки, не видели Галочку, что на кухне работает?
Никаких девочек не было видно, и только очень далеко внутри были видны люди. Но кто они, разобрать не было возможности.
Эта женщина объяснила мне, что в канцелярии принимают передачи. Это было в направлении города. Женщина побежала дальше, так же крича в пустое пространство.
За забором небольшой, очень чистый дачный домик. Словно не в лагере, о котором рассказывают ужасы, а на даче у зажиточных людей. Ходят девицы в крепдешиновых платьях
На повороте к русскому кладбищу часовой, украинский полицейский в черной форме, с ружьем. Ответы — как у всей нашей полиции. Стоит олух и словно не понимает, что ему говоришь. А когда поймет, тогда ты не понимаешь, что он говорит. После несколько раз повторенных вопросов он объяснил все-таки, что передачу принимают в правом окне контроля. Тут же справа начало лагеря. Голубой чистый забор. Цветы. Чистота. Стоит немецкая машина. За забором небольшой очень чистый дачный домик. Словно не в лагере, о котором рассказывают ужасы, а на даче у зажиточных людей. Ходят девицы в крепдешиновых платьях, в белых передниках с немецкими прическами, как те, что обслуживают немецкие казино. А из окон пялятся физиономии полицейских.
 В киевском отделении штаба рейхсляйтера Розенберга. Фото: Reibert / Livejournal
В киевском отделении штаба рейхсляйтера Розенберга. Фото: Reibert / Livejournal
Первое окно открыто. В комнате нет никого. Там цветы. Радиоприемник хороший. Играет. Стоят два или три узла, с передачами, очевидно, потому что фамилии написаны.
Наконец из соседней комнаты выдвинулся полицейский с таким же беспросветно умным лицом, как и тот, что у входа.
— Вам чаво?
— Передачу передать.
— То передайте.
— А как узнать, есть ли они?
— Та тут ничего узнать нельзя. И вообще тут стоять не разрешается.
— Мне можно подождать?
— Тут ждать не разрешается.
— А когда же мне прийти?
— Та когда хотите.
Аудиенция окончена. Когда я ухожу, из-за проволоки распухший парнишка лет 16–17-ти просит:
— Тетя, не бросите ли хлебца?
Он несет ведра с водой. Но полицейский тычет ружье в мою сторону.
— Проходите, гражданка, стрелять буду.
Я прохожу. Парень смотрит вслед. Шоссе идет мимо русского кладбища, поворачивает на Петровку. Больше не нужно идти через Бабий Яр. От Петровки шла какая-то женщина на Еврейский базар. Она рассказала мне об этом лагере, многое подтвердив из того, что рассказывали другие. Ходить туда нельзя. Могут убить или немец спустит собаку, как было с одной приезжей женщиной. Она искала дочь, остановилась у проволоки. Собака порвала ее едва не до смерти.
Это была среда 23 июня. В четверг вечером, после очередного урока, впервые по-немецки рассказала Логану свою историю. На него она произвела ужасное впечатление. Он не понимает, как могут брать семью, стариков, детей, если виновен только муж. Странно. Немец не понимает, что такое гестапо.
Логан пошел все же в гестапо. И снова стало ясно, что нет у меня надежды найти их сейчас. Слишком серьезное дело. Да, я это знала и знаю
Снова все во мне поднялось со всей силой, потому что на безучастность всегда рассчитываешь, а участие, да еще от немца, – всегда неожиданно. Оттого и волнует. А он долго уговаривал меня сказать имена. Он пойдет в гестапо и сам спросит о моей семье. Сколько ни говорили ему, что в лучшем случае ему ничего не скажут, а в худшем его визит туда будет иметь тяжелые последствия и для него. Он все равно настоял. И имена мы ему сказали.
А у него ведь семья, трое маленьких детей, из которых старшему шесть с половиной лет.
— Ну, так меня арестуют, — говорит он. — Меня же знают, у меня много друзей, меня освободят.
Но я знаю, что это бесполезно.
А 3 июля, как я уже писала, Логан пошел все же в гестапо. И снова стало ясно, что нет у меня надежды найти их сейчас. Слишком серьезное дело. Да, я это знала и знаю.
11 августа 1943 г., среда
Уже сто шестьдесят дней, как нет моих. Ожидание делается нестерпимым. Особенно потому, что что-то изменилось на фронтах, о чем мы не знаем. Уже более трех месяцев нет никакой возможности услышать советское радио. Но по всем признакам наши идут вперед. Сегодня снова началась паника. Возможно, это спекулянты пользуются разными слухами, чтобы взвинтить цены. С утра еще базар был такой же обильный, как и все это время. Потом паника, и на базаре не осталось ни людей, ни продуктов. К вечеру, говорят, появились снова, но по паническим ценам. Причина – беженцы из Харькова. Вчера, говорили, пришла одна машина. Сегодня она выросла уже в три эшелона фольксдойче.
 На снимке Харьков в годы немецкой оккупации. Фото: kharkov2012.org
На снимке Харьков в годы немецкой оккупации. Фото: kharkov2012.org
Наконец, последнее: к вечеру все спрашивали друг друга:
– Что, Харьков уже советский?
Можно ли рассказать, что чувствуем мы? Ведь только освобождение может спасти несчастных обреченных и не только моих.
Настроения немцев совершенно точно определил на днях Логан. Он говорит, что вся мыслящая часть немцев видит неминуемую и ужасную гибель Германии. Ничто сейчас ее не может спасти.
Он рассказал о том, чего мы не знали, что в эти месяцы шел жестокий бой на нашем фронте, который охватил огромную территорию в районе городов Орла, Курска и дальше до Харькова. Что в этом бою немцев погнали с такой силой, что они уже не могут остановиться. Во всем винят Гитлера, на которого, по словам Логана, якобы было покушение, но он остался невредим. Еще Логан говорит о том, что Англия и Америка сделают все для взаимного уничтожения Германии и Советского Союза, и тогда наложат свою лапу на Европу.
Во всяком случае, у нас такое чувство, что приближаются события, которые должны оказать влияние на судьбу оккупированных частей нашей земли, а значит и на нашу судьбу.
Освобождение! Как страстно мы его ждем, но не обманываем себя. Еще очень сильны немцы. И сколько еще жизней наших людей нужно отдать до конца войны! И когда мы думаем о цене окончания войны, делается просто страшно.
18 августа 1943 г., понедельник
В среду снова были на Сырце. Шли в полной и глубокой уверенности, что их нет здесь. И все-таки шли. Перед тем нам сказали, что всех заключенных из Сырецкого лагеря вывозят в Польшу или в Германию. По дороге видели на Петровке женщин-заключенных, которые сгружали уголь на путях. Вид у них довольно здоровый. Они, должно быть, из тюрьмы. Там теперь принимают только белье два раза в неделю, а пищу – нет. Подошли мы к русскому кладбищу, а там сейчас же за воротами через все шоссе новая загорожа и немец с ружьем. Мы хотели пройти, он остановил:
– Verboten!
Несколько дней как запретили. Почему? Он не знает. Как пройти на Сырец? Он не знает. Повернули к еврейскому кладбищу. Там за входом на татарское (или это второй вход на еврейское – не знаю я) та же история – столбы через всю дрогу. И дальше немцы-охранники с собаками. У загорожи машина и шофер наш, русский. Он говорит, привез рабочих в Сырецкий лагерь телефон проводить. Но близко подъехать ему не разрешили, а выставили за загорожу. Говорит, что в лагере сейчас еще строже стало. Нечего и пытаться подойти. И пути к нему нет. Загорожа так далеко, что и Бабьего Яра не видно.
Пока мы разговаривали с шофером, из ворот еврейского кладбища вышли заключенные на обед. Их было человек тридцать. Сначала мы подумали, что это мальчики. Так высохли мужчины. Они казались или детьми, или глубокими стариками. Ужасный угнетенный и изможденный вид. А конвоя из немцев с обнаженными револьверами было почти столько же, сколько и их. Они ушли в сторону лагеря, а из-за угла выехала машина. В ней было несколько заключенных и еще больше стражи. Никаких украинских полицейских. Только немцы.
26 августа 1943 г., четверг
Сегодня мне сказали, что немцы "жгут" Бабий Яр. Сжигают тела убитых там людей. Так вот почему мы не могли пройти к Сырецкому лагерю! Вот почему были эти белая загорожа и немецкие постовые! Заметают следы своего чудовищного преступления. Не свидетельство ли это скорого конца?
 На снимке Харьков в годы немецкой оккупации. Фото: kharkov2012.org
На снимке Харьков в годы немецкой оккупации. Фото: kharkov2012.org
Советские войска в Гадяче. Оправдывают это немцы тем, что война на восточном фронте приобрела характер подвижной позиционной войны. Но их же сводки говорят обратное. Судя по этим сводкам, советские армии наступают по всему фронту, и "подвижная позиционная война" немцев имеет только одно направление – отступление. Если на позапрошлой неделе были беженцы из Харькова, которых, по словам одних, совсем не пустили в Киев, по другим источникам — вернули назад с дороги, а третьи видели их здесь в школе на Бульварно-Кудрявской, то сейчас есть беженцы из Полтавы и из Харькова уже совсем определенно. О сдаче Ахтырки говорили давно. Про освобождение Гадяча я услышала в понедельник. А на прошлой неделе были люди из Веселого Подола. Там постоянно слышна канонада, но живут они спокойно. Приехали сюда за семенами.
То ли народ привык уже к постоянным известиям о переходе городов из рук в руки, то ли изменилось настолько общее настроение, только паники в городе нет. Даже базар – и тот почти не отреагировал на освобождение Харькова. Во вторник утром цены подскочили вдвое, но продержались лишь два часа.
27 августа 1943 г., пятница
Вчера весь день говорили о взятии нашими Полтавы и Лозовой. В Гребенке слышна, говорят, канонада. Но, как это ни странно, паники нет и сейчас. Немцы спокойно уезжают и приезжают из отпуска. Все они стремятся в отпуск, и не только потому, что многие из них не хотят воевать, но и потому, что сейчас уже чуть ли не каждая немецкая семья пострадала от бомбежек.
Странное сейчас настроение. Как будто бы все указывает на скорый конец, а чувства этого конца нет. Ясно, что в войне наступил решительный перелом, и немцы отступают. Но когда Логан сказал, что, по его мнению, война продлится еще не меньше года, волосы поднялись на голове. Выдержат ли Леля, Татьяна и Шурка год еще?
Отношение наше к тому, что происходит, делается все сложнее. Если в прошлом году все немцы подряд были для нас врагами, которых нужно было только уничтожить, то теперь это изменилось для нас, потому что при ближайшем рассмотрении оказалось невозможным одинаково относиться к немцам-фашистам и к немцам другим, которые так же, как и мы, ненавидят гитлеровский режим и войну, которые выступают более или менее активно против этого режима. Среди них есть люди, настоящие люди с большой буквы, распространить на них ненависть никак не возможно. Достаточно подумать о немцах в кандалах в Голосеевском лесу. И получается такое сплетение противоречий, что невозможно даже представить себе, что будет и как.
Одно ясно: своих, наших день ото дня делается все больше.
30 августа 1943 г., понедельник
Мы и теперь живем только слухами. Те, кто больше всего ждет наших, говорят, что Днепр возле Смоленска уже перейден советскими войсками и что брать Киев будут сверху. А пока что страшно, потому что не видно конца репрессиям и неизвестности.
Главная тема разговоров среди наших людей и вопросов немцев – что кто будет делать, когда придут наши. От опасений не свободны и те, кто больше всего их ждет, и у кого смысл жизни сосредоточился только на возвращении наших. И дебатируется вопрос – чья вина больше?
Одни работают в управлении базаров, другие в генералкомиссариате, третьи – в штабе, четвертые – в управлении речного пароходства. Иные нигде не работают. Одни работают в якобы гражданских учреждениях, другие – в военных. И сравнивая степень "виновности" своей перед народом, все приходят к выводу, что все виноваты или никто не виновен. И все боятся, и никто не боится. Многие ли собираются уходить? От бомбежки – да, от Советской власти – нет. Как немцы из Гамбурга: сначала ушли из него, а теперь все возвращаются назад, на развалины, чтобы если умереть, то дома. Так и наши люди, мы все собираемся оставаться обязательно.
1 сентября 1943 г., среда
Позавчера вечером по радио, а вчера в газете сообщили немцы, что "под натиском превышающих сил врага на южном фронте, для более уверенной и планомерной защиты фронта" они оставили уже совсем разрушенный Таганрог.
 Хорошунова: настроение у всех напряженное, главным образом из-за арестов, которые носят сейчас массовый характер. Фото: yamne.sumy.ua
Хорошунова: настроение у всех напряженное, главным образом из-за арестов, которые носят сейчас массовый характер. Фото: yamne.sumy.ua
Несмотря на хорошие вести, настроение у всех напряженное, главным образом из-за арестов, которые носят сейчас массовый характер. По ночам берут снова семьи с детьми и, кроме случаев с внешне имеющимися причинами, много непонятных. Берут бывших партийцев и тех, кто был исключен из партии, и бывших репрессированных, и тех, кто никакого отношения к партии не имел.
В дополнение к общему пониженному настроению вчера начал получать повестки 1926 год. У нас волнение, потому что Галина получила повестку, и сегодня она с представителем лагеря, где она работает, должна явиться на биржу. Смогут ли ее отстоять? Это сейчас самый актуальный вопрос.
Паника несколько не вяжется с повседневными делами. На работу к нам все еще принимают людей. И вчера получили из Кенигсберга семьдесят ящиков книг для библиотеки. Судя по тому, что в них вперемежку письма, фотографии, всякие документы, вроде расчетных книг, много иудаики, запрещенных книг, книги на всех языках, включая нидерландские, мадьярские, скандинавские. Приходится предположить, что это конфискованные частные библиотеки, главным образом еврейские. Вчера в газете приказ о запрещении въезда и выезда из города без специальных пропусков. Это чтобы не бежал 1926 год и партийцы.
2 сентября 1943 г., четверг
Галину освободили, ко всеобщему облегчению, и всех девушек, работавших с нею, – также. А в газете вчера опубликовали приказ о призыве 1926 года на местные работы. По слухам — на работы по укреплению города. Кроме того, вчера уже заговорили о мобилизации украинцев тоже, не только фольксдойче. С фронтов нет никаких особых новостей. Событий ждут все, но все-таки не раньше, чем к весне.
Я разбираю чужие книги. В некоторых из них письма и засохшие цветы. Цветы пахнут еще, а хозяев уже, наверное, давно нет в живых. Когда разбирала библиотеки украинских писателей, всех знала в лицо, они живы, находятся у своих. А это чья-то чужая, совсем иная жизнь, не менее страшная, чем наша. Книги — французские, немецкие, английские, итальянские, венгерские, голландские, румынские, еврейские, скандинавские и восточные.
Только русских нет совсем. Ни одной.
3 сентября 1943 г., пятница
На фронтах ожесточенные бои. По слухам, немцы сдали Севск и Рыльск. А советское правительство провозгласило будто бы "самостійну Україну". Это один из парадоксов нынешней обстановки. Мобилизация мужчин-фольксдойче объявлена официально. О мобилизации украинцев говорят, но официально не объявляют. Все немцы считают свое положение безнадежным, но сдачу Киева "оставляют" на весну. Никто ничего сказать нам не может, потому что советских сведений у нас, можно сказать, нет совсем. Радио нет уже много месяцев. Только случайные сведения.
Пока что в библиотеку к нам идут еще 150 ящиков книг. Куда их помещать — неизвестно, но это очень большое богатство и необходимо их обязательно рассунуть, куда угодно.
На Андреевском спуске неважное настроение. Николаю Иосифовичу срочно сделали операцию по поводу прободения язвы и начала перитонита. Сидят они в полупустом доме, на стенах грибы растут, и крысы съедают мебель. А прораб с немцами разваливают квартиры.
6 сентября 1943 г., понедельник
Вчера с десяти часов вечера и до половины первого ночи была какая-то странная молчаливая тревога. Погас свет, замолчало радио, немного повыла сирена и больше ничего. Небо было совсем ясное, ночь холодная. И нигде никого на небе не было. В городе машины продолжали ездить. Во многих окнах горел свет все время, так что многие, вероятно, так и не знали про тревогу. Мы все приготовили, Нюся ждала, что будет, а девочки и я спали. Ничего не было, только не выспались.
К сожалению, с фронта никаких известий. События не движутся. Бомбят Полтаву. Беженцы из нее сидят у нас в библиотеке.
7 сентября 1943 г., вторник
Вчера в городе заволновались по тому поводу, что по радио объявили о жестоких боях на запад от Конотопа. А это уже совсем близко от нас. Публика, которая хочет бежать от большевиков, уже спланировала свой отъезд отсюда. Сами же немцы ведут себя так, словно никуда отсюда не собираются.
Вообще же жизнь идет нормально. Опера начала играть. Ставят "Тангейзера". Только начало в ней теперь в 4 часа дня, очевидно, из-за боязни тревоги. Наверное, украинцам можно теперь в оперу, раз вообще пошли нынче разные внешние поблажки. Штаб Розенберга занимается даже определением наиболее характерных черт украинцев для установления права их принадлежать к высшим расам новой Европы! Как же нам не радоваться-то!
8 сентября 1943 г., среда
Вчера много говорили о том, что нашими взят Конотоп и Врожба. Это от Севска и Рыльска советские войска идут вверх за Киев, в обход. А немцы в Киеве все равно спокойны. На что они надеются, понять невозможно. В Италии они отступают.
В связи с назначением нового начальника "СА" для оккупированных областей ждут больших репрессий.
В библиотеке у нас сидят полтавские беженцы, назад не едут. Вообще же ничего понять нельзя. Немцы выбирают землю для огородов на будущий год.
9 сентября 1943 г., четверг
Вот теперь паника идет усиленными темпами вверх. Бои, говорят, под Бахмачем, а нынче говорят, что Бахмач уже советский. По радио вчера немцы передали, что сдали Сталино. Но с Конотопом будто бы вчера кто-то говорил по телефону, и он в немецких руках. Панику вчера усилили разговоры об эвакуации.
 Кадр из кинодокумента: Части Красной армии направляются в освобожденное Сталино (сейчас Донецк). Сентябрь 1943 года. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua
Кадр из кинодокумента: Части Красной армии направляются в освобожденное Сталино (сейчас Донецк). Сентябрь 1943 года. Фото: tsdkffa.archives.gov.ua
Клинику мединститута предложено срочно освободить. Это врач сказал вчера Надежде Васильевне, что Николая Иосифовича придется забрать раньше времени, и она должна быть к этому готова. Все это в связи с увеличением количества госпиталей, потому что прочие в городе переполнены ранеными. В клинике Кособуцкого медперсоналу предложено приготовить вещи на случай эвакуации. Всем зоммеровским институтам предложено подать списки желающих эвакуироваться. Каждый вечер, уже воскресенье, понедельник, вторник и среду, с половины девятого выключают свет, и беспрерывно слышны звуки идущих поездов и машин. Куда же они идут, еще не знаю. Кто говорит — от Днепра, кто говорит — к Днепру.
Положение напряженное, что и говорить. И страшное. Но одно желание — скорее бы! Это единственное спасение моих и многих других. А может быть, наоборот? Ведь уходя, немцы могут убить всех. Живого места нет внутри, так наболело все от ожидания, отчаяния и неизвестности за своих и за других.
12 ч. дня
Да, настроение веселое сегодня! Бенцинг распорядился приготовить на всякий случай ящики для музеев, архива и библиотеки. Поэтому срочно распаковывается литература из Кенигсберга, ее сваливают в одну комнату, а целые ящики забирают.
Болит голова от этой всеобщей паники, и хотя никак не верится, что наши еще долго не придут, очень страшно за заключенных, страшно, что их немцы могут убить. Аресты продолжаются. Арестовывают целые семьи.
10 сентября 1943 г., пятница
Теперь уже никакого сомнения, что немцы оставляют Киев. Если вчера утром сказали, что эвакуация зоммеровских институтов приостановлена до 20-го, то в действительности три санитарных поезда вывозят в понедельник отсюда три немецких больницы, а военные госпитали в течение 8–20 дней выезжают на Балканы. Там предполагается фронт.
Вчерашний день как будто бы решил все. Наступают наши теперь и не дают немцам остановиться или события в Италии изменили так резко их настроения, только вчера уже было очевидно, что лишь какой-нибудь неожиданный компромисс может помочь немцам.
Вчера наш д-р Бенцинг сидел долго в канцелярии, он ходит по библиотеке, ничего не может делать, и вид у него человека, на которого свалилось огромное несчастье. Он спросил, что я знаю о сестре, и сказал, что положение с моей семьей ужасно. Спросил, уеду ли я с ними, когда они будут уходить. На мой ответ, что я надеюсь на мир, он безнадежно махнул рукой и сказал, что это абсолютно невозможно, что им конец бесповоротный. Я объяснила ему, почему не могу и не хочу никуда уходить. Он сказал:
— Как много приходится выносить вашему народу. Я желаю всем вам всего самого наилучшего. Желаю, чтобы собралась ваша семья. А мы должны уйти отсюда.
Мы можем быть удовлетворены, что дожили до того, что увидели: господа Европы, высшая раса, победители утратили свое "величие". Соскочила "важность". Остались перепуганные люди, которые теперь не понимают, зачем они сюда явились.
Меня трясет все время и болит голова. Большое счастье, что мне ничего не нужно решать. Но это только о себе. А другие? И ужасная мысль о том, что может быть, мне еще долго ждать своих. Стараюсь не допускать мысль о том, что их убили или убьют немцы. Совершенно неудержимо тянет на Андреевский спуск. Когда смогу перетащить туда свои вещи? Работать невозможно совсем. Наверное, днем будут еще новости.
16 сентября 1943 г., четверг
Я думала, что сегодня уже никого не найду на работе. Но есть все, и даже окна наверху позакрывали, чтобы сквозняка не было. А вчера к концу дня настроение было весьма напряженное, особенно после прихода какого-то из немцев к Бенцингу.
Тем не менее, Форостивский и другие головы управ получили приказ препятствовать всякому возникновению паники. Город должен работать бесперебойно и организованно, как еще никогда не работал (так и сказано). А немцы-рейхсдойче тем временем уезжают.

Из разных негласных, но официальных источников мы знаем программу действий на ближайшее будущее: фронт будет отходить к Днепру, пока дойдет до линии Борисполь–Золотоноша, то есть приблизительно за 50 км от Днепра. Отодвигаясь, немцы уничтожат все села, леса и вообще все, что есть на пути. Населению будет предложено уйти. За оставшихся немцы не отвечают. На этом очищенном месте будут бои, и дальше по приказу Гитлера советские войска не должны пропустить. Киев переходит на положение фронтового города, из которого выедут все ненужные для фронта научные и другие гражданские учреждения. Генералкомиссариат отсюда уезжает, и все переходит в ведение штадткомиссариата. Места, куда эвакуируют все эти гражданские институты, – Белая Церковь, Винница, Умань, и самый крайний пункт – Каменец-Подольск. Туда едет наш Verwaltung.
Если на прошлой неделе говорилось еще об эвакуации в Познань–Лодзь–Ровно, то теперь крайний пункт – Каменец-Подольск. Больницы совсем не эвакуируются. Лазареты военные выезжают на будущей неделе на Балканы или в Испанию. Другого места им нет. Немцы не хотят уезжать отсюда и больше всего не хотят ехать в Германию.
Привозят раненых из Нежина. Позавчера вечером было получено официальное секретное извещение о том, что Нежин уже сдан советским войскам, а Днепропетровск эвакуируется. Наши армии идут теперь по 20 километров в день.
До нас никак не доходили сведения о том, что же выходило в фашистской Германии, на чем воспитали они сотни тысяч тупоголовых убийц, которые так же далеки от подлинной культуры, как животные из породы свиней
После упорных разговоров об эвакуации, о том, кого заставят ехать, кого не возьмут, кто хочет, кто не хочет ехать, по поведению немцев в последнее время создалось впечатление, что вообще немцы не возьмут с собой желающих, никого и никуда. На вопросы немцев полагается отвечать, что все едут отсюда, особенно те, кто рискует в последнюю минуту перед освобождением попасть в гестапо. А это, наверное, конец. В эти дни у всех очень странное томительное состояние. Библиотеку собираются частично эвакуировать. По-видимому, незначительно, так как Бенцинг сказал:
– Книги принадлежат вашему народу и должны здесь остаться.
В ответ на приказ, полученный им от Винтера, он приказал приготовить девять ящиков. В пятницу мне предложили уложить ящик в кабинете искусств. Но потом это распоряжение для меня отменили и приставили меня к немцу из немецкой школы, который должен был из новоприсланной современной немецкой литературы отобрать для школы, отправляемой в Ровно, 2 тысячи книг.
Не писала еще о том, что недели две тому назад в нашу библиотеку прибыли свыше 10 тысяч книг новейшей немецкой, преимущественно фашистской литературы. Среди нее книги Гитлера Mein Kampf, Розенберга "Миф ХХ столетия", очень много различной их политической литературы, но кроме этого, книги по всем вопросам науки, литературы, искусства. До нас никак не доходили сведения о том, что же выходило в фашистской Германии, на чем воспитали они сотни тысяч тупоголовых убийц, которые так же далеки от подлинной культуры, как животные из породы свиней.
Немцы, знающие свою классическую литературу, – редкость. Правда, и свою новую литературу они знают столь же мало. Но вот прошло два года нашего принудительного общения с немцами, и хотя наша работа связана непосредственно с литературой, никто ни разу не видел ни одной их современной книги. И что же?! Теперь, когда ясно, что немцы сворачивают манатки перед бегством отсюда, случайно ли, специально ли, но в нашу библиотеку попадает все главное, что у них выходило за последние годы. Назначение этих книг — быть распределенными по учебным заведениям военных немцев. Пока за ними явился первый представитель.
В субботу утром я сразу же вынесла в книгохранилище все книги Рильке, Георге, Эрнста, Юнгера, Кольбенгаера и других, заменив их иными авторами. Хорошо, что поторопилась
Крайне слабое знание немецкого языка мешает мне разобраться как следует в том, что имеется среди этих книг, но мои скупые познания позволяют все же установить некоторые особенности этой литературы, ознакомлению с которой способствует ее оформление, рассчитанное, словно специально, на людей, изрядно ограниченных. Заключается это в аннотациях, предпосланных каждой книге на суперобложке или на странице перед титульным листом. Аннотация полностью раскрывает содержание книги и дает общие сведения об авторе.
Характерно, что вся литература в основном развлекательная, без всякого стремления способствовать развитию человека. Чем-то до крайности утилитарным веет от нее. И на всем, быть может, оттого, что книги иллюстрированы в каком-то легкомысленно-лубочном стиле, вся литература носит характер чего-то гримасничающего, паясничествующего. И все это в великолепном полиграфическом исполнении.
Этих книг не было и нет у нас, а в такой библиотеке, как наша, они, безусловно, должны быть. И я сказала об этом Николаю Владимировичу, он сказал Бенцингу. И мне разрешили после ухода немцев выбрать из отобранных им книг то, что в одном экземпляре, заменить любыми дублетами и вынести отсюда. Немец ушел лишь после половины пятого.
А в субботу утром я сразу же вынесла в книгохранилище все книги Рильке, Георге, Эрнста, Юнгера, Кольбенгаера и других, заменив их иными авторами. Хорошо, что поторопилась, потому что в начале девятого немец явился с 10 или 12 учениками-немцами, и они бегом начали выносить книги. Визит этого желтого немца лишний раз показал, как различны немцы, которые пришли сюда. Он прыгал перед полками, выходил из себя, брызгал слюной, возмущаясь, что не может забрать всего.
— Зачем эти хорошие книги привезли теперь сюда? Как можно, чтобы они здесь остались?!
Всех книг желтому немцу утащить не удалось, много больше осталось. И Бенцинг, который, наверное, знает уже, что библиотека остается не немцам, а нашим людям, разрешил, во избежание опасности еще подобного вывоза этих книг, отобрать и вынести в книгохранилище все, что найдем нужным. Так как он не ограничил количества, я просто взяла всего по экземпляру, а лучших книг — по два. Так получилось и с эвакуацией наших книг. Вопрос был поставлен так:
— Что-нибудь наиболее ценное по украинскому и русскому искусству. То же – из стародруков, музыкального и рукописного отделов — по нашему усмотрению.
Мы положили дублеты. Вышли неполные ящики. Дополнили их художественной новой немецкой литературой, снова из той, что теперь привезли.
Позавчера взяли на окопы 10% сотрудников консерватории, а вчера — у нас. Они утром идут туда (это на Демиевке), а в половине третьего их отпускают домой. Работают, говорят, с прохладцей.
16 сентября, 4 часа дня
Тишина у нас. Только Луиза Карловна отказалась идти слушать Чайковского вечером. Похоже на то, что слушателей сегодня на Чайковском будет немного. В кабинете Бенцинга разгром. Это Луиза Карловна складывает бумаги. Если кто-нибудь входит, они как будто бы пугаются, словно делают что-либо запрещенное.
17 сентября 1943 г., пятница
Вчера сообщили по радио, что немцы сдали Лубны и взяли снова Нежин. По слухам, советское радио передало известие о праздновании Нежинской победы, о салютах по этому поводу в Москве и о присвоении войскам, освободившим Нежин, звание Нежинских. Нечего говорить, что нас больше устраивают – пускай даже слухи, но советские. Однако немцы пишут, что "фронт, имеющий от Азовского моря до устья Днепра зигзагообразную линию, может еще меняться". И возможно, он действительно еще меняется.
Много делается специально для того, чтобы не создавать паники. Сейчас в городе действительно жизнь оживленнее, чем прежде. Украинцам устраиваются "празднования" к двухлетней годовщине "освобождения". 19-го и 20-го бесплатные спектакли в театрах для украинцев. Паек, говорят, управа будет давать. В Доме ученых устраивают выставку "замордованих" украинских писателей, и мы выдали для нее даже книги из библиотек писателей.
С Логаном, которого отправили на фронт, мы попрощались вчера. Он пришел на несколько минут, принес хлеба и книгу стихов Моргенштерна на немецком языке, на память. Я подарила ему однотомник Блока, с моим подстрочным переводом "Скифов", по которому мы с ним занимались русским языком. На титульном листе написала: "Хорошему немцу от русской". И подписалась. Никогда не забыть мне, что он не побоялся пойти в гестапо хлопотать о моей семье.
18 сентября 1943 г., суббота
Волнение все вырастает. Нет людей, которые были бы спокойны. Многие предоставили событиям себя и свою судьбу. И даже те, кто ждет, кто никуда не уйдет, и те волнуются, потому что все ждут, что Киев взорвут, сожгут и всех выгонят.
Пока же идем сегодня копать картошку и хотим сделать возик, все на случай ухода из города. Надо шить, надо чинить, надо быть готовыми, и сделать это, пока сидим еще в своих квартирах и спим в своих кроватях.
Война идет совсем не так, как кто-либо предполагает. Вчера по немецкому радио сообщили, что немцы оставили Брянск и Новороссийск. А по советским сведениям – освобождены еще Лозовая, Ромны, Нежин и, очевидно, Лубны, потому что с Лубнами уже сообщения нет. Беженцы – это самое страшное, что может быть. Их гонят под конвоем, через Киев, по пропускам через город только ночью. Им не разрешают сворачивать с пути. И эти люди идут оборванные, голодные, кто как может: кто с кроватями и гусями, а кто с голодными детьми, босиком. Кто видел этих беженцев, идущих через город, тот совсем потерял покой.
В городе очень большое движение. Много новых войск. На улицах снова кричит радио. Вечером неприятно на улицах. Тьма и только военные машины. Идут машины и орудия во все стороны. Чувство такое, что дорабатываем последние оккупационные дни. Если администрация уедет, нас, безусловно, либо сократят, либо возьмут на окопы.
Какие книги! Какие издания, никогда прежде у нас невиданные. Очень много неизвестной нам литературы, той, которая не попадала к нам и в десятой доле. На нее нужна была валюта
В некоторых учреждениях уже сокращения. Пока еще все на месте и меня не трогают, разбираю и разношу по книгохранилищу библиотеки, прибывшие к нам из Кенигсберга. Для меня ясно, что эти библиотеки – ценнейшее для нас приобретение. Поэтому, стараясь не размышлять о происходящем и меньше волноваться по поводу приближающихся событий, стремлюсь спрятать как можно больше из этих книг.
Тоскливое чувство поднимается среди разрытых и уничтоженных чужих жизней. Частная переписка, документы, фотографии, паки дел, заказы, прейскуранты. Совсем иная, нам непонятная, жизнь. И роскошные книги! Какие книги! Какие издания редчайших вещей, никогда прежде у нас невиданных. Очень много, большая часть, неизвестной нам литературы, той, которая не попадала к нам и в десятой доле. На нее нужна была валюта. Особенно много французской литературы. Все новое и неизвестное. Много имен, о которых никогда не слыхали.
Это библиотеки врачей, офицеров, композиторов, коммерсантов, буржуа и других. Мне не определить всех только по фамилиям. Но ясно, что все это были богатые люди и евреи. Фамилии многих из них можно определить, только я не занимаюсь специально этим. Мадам и месье Дрейфус из Парижа, Castigloni из Вены, оттуда же Irene Balogt и Freulein Jenny Fisch, композитор Colbonna и другие, много других. Вот не знала, например, что дирижеры Клемпере и Унгер – евреи. Мне попались ноты с их факсимиле.
Гербарии неизвестных цветов, каталоги и альбомы почтовых марок, чековые книжки на банки. И роскошные книги на всех языках. Специально представлена иудаика. От еврейских книг исходит какой-то резкий и неприятный запах. Огромные нотные библиотеки хорошо изданных клавиров, клавираусцугов, голосов камерных и симфонических вещей. Странно, что все это попало к нам. Если живы еще эти люди, никак не догадаться им, где искать свои библиотеки. Кто-то тащит у нас эти книги и ноты.
23 сентября 1943 г, четверг
Хотя с субботы прошло всего четыре дня, впечатление такое, что прошло несколько месяцев. Столько событий произошло в эти дни. Темпы этих событий и быстрые, и медленные. Мне написали бумажку для тубдиспансера и отпустили туда. На улицах было страшновато. С Васильковской на бульвар вверх, с Крещатика туда же во все стороны шел непрерывный поток из машин, подвод, орудий, который поминутно останавливался. Перейти на другую сторону улицы не было никакой возможности.
В диспансере порядок и тишина. Меня записали на понедельник на утро. Оттуда пошла в консерваторию. Там испуганные консерваторцы из оперного хора прибежали к Нюсе за советом: им Брюкнер, главный хозяин оперы, с издевательской усмешкой заявил, что абсолютно всю оперу, всех служащих он забирает с собой без права брать семью. Куда — неизвестно. Спектакли, щедро обещанные украинцам 19-го числа, отменялись. На крайний случай, если их все же увезут, дали все возможные адреса в Украине, в Польше и Германии, чтобы списаться потом и не растеряться. решили ждать, что будет.
В штабе Розенберга уехали все рейхсдойче, кроме пяти человек, а нашим людям сказали уложиться и ждать. Это было в 11 часов утра в субботу. В библиотеке в 12 часов нас всех потянули на конвейер грузить архив древних актов. Ящики отвезли на вокзал. В час мне дали возик из медбиблиотеки, и мы с Нюсей выбрались на огород.
Была сухая теплая погода. Кроме нас, на огороде не было ни одной живой души. В небе то и дело пролетали самолеты, и мы с надеждой смотрели: не наши ли? У нас хороший урожай картошки в этом году. Мы всего не выкапывали, потому что сразу не довезем. Потом решили вырыть яму и в нее ссыпать все, что собрали. Отделили крупную, мелочь сложили в яму и двинулись медленно с нашим грузом домой.
26 сентября 1943 г., воскресенье
Итак, первый, а может быть, и последний этап изгнания нашего начался. Во второй половине дня 23-го числа на стенах улиц и по радио был объявлен приказ: до 26.10 всему населению города Киева очистить город на расстояние трех километров от Днепра. Это будет запрещенная зона. Все должны выселиться за пределы улицы Саксаганского, Дорогожицкой, Красноармейской.
Никто не знал, куда идти, куда деваться. Галю на казарменном положении оставили в Gerätelager. Начали копать ямы в сараях и закапывать вещи. Сложили в ведра посуду, в корзины белье и верхнее, сверху положили бадьи и корыта. Засыпали все. 25-го вечером, вчера, снесли в сарай под лестницу альбомы с фотографиями моих родных, чехлы с дивана и кресел. Там же была и картошка, привезенная с огорода. Сегодня утром обнаружили, что все украдено дочиста.
Конечно, все это никакого значения в нашем положении не имеет. Но кому понадобились мои фотографии? Если нужны были альбомы, пусть бы выбросили карточки. А то осталось лишь то, что всегда ношу с собой в портфеле. Еще не управились Любовь Васильевна и Надежда Васильевна. Сегодня последний день по приказу, когда нужно уйти, а они еще не сложились. Не знаю, куда они пойдут.
28 сентября 1943 г., вторник
Третий день мы, изгнанные, живем в бывшей Артшколе. Здесь в одном доме помещается Gerdtelager, где работает Галя. И так как ее не отпускают теперь домой, а нас выгнали, мы перебрались с нашими мешками сюда, чтобы Галю одну не могли увезти. Дни теперь, как месяцы. Ни запомнить, ни записать. Хорошо, что обстановка вынуждена меняться. Нет времени. И все мы ничего не соображаем.
В воскресенье все вытирали, бегали друг к другу, советовались, спрашивали, что делать. Шел разговор о выезде фольксдойче, но никто еще ничего не знал.
Вечером была на Андреевском. За Днепром издали виднелось зарево, где-то были первые пожары. А потом все пошло кувырком.
29 сентября 1943 г., среда
Мы все еще сидим в Gerdtelager и пока просвета не видно. Возможности вырвать Галю пока нет. И, кроме того, есть надежда, что этот склад двинется из Киева именно в сторону Каменец-Подольского. А туда, конечно, очень хотят Нюсины старики, и там скорее можно среди своих скрыться Гале и Нюсе. В общем, пока нам неплохо. Хотя нас поместили в ужасающе грязной комнате. Она просторная, светлая и есть даже какой-то шкаф для одежды. Все мы спим на соломе, но на постелях, есть на чем сидеть. Много лучше, чем все остальное, где разместилось сейчас изгнанное из своих домов городское население.
С утра я была в городе. Ужасающее впечатление производят переселенцы. Вдоль всей запрещенной зоны протянута проволока по краю тротуара. На улицах Кузнечной, Паньковской, Тарасовской, Караваевской, кроме вырытых рвов, через всю улицу свалены толстые деревья и вместе с кроной изображают заграждения. На улице Урицкого оживленно, как в праздник на Крещатике в советское время. Соломенский базар полон всего. Есть все по невероятным ценам: сало – пять тысяч, подсолнечное масло – четыре тысячи, хлеб – 700 рублей буханка. Продающих больше, чем покупающих.
По незапретной стороне улицы Саксаганского стоят жители, отдельно, группами или толпами. На каждом шагу знакомые, все спешащие сообщить о своих злоключениях. Нет уже ни одной квартиры, которая бы не была раскрыта, если не разграблена.
День начался удачно, нашла Дунечку и Павлушу. Они на Саксаганского в 131-м номере на седьмом этаже. Узнала адрес моих житомирских друзей – они на Кузнечной в 110-м. Дунечка и Павлуша в семье рабочих, и им там неплохо. До сегодняшнего дня сидели мужчины с бородами, а сегодня побрились. Их управдом обещает спрятать на случай облав. Сказала Дунечке, что у нас украли всю картошку. Она обещала пойти на огород, посмотреть, осталась ли хоть та мелкая, которая была зарыта в яму. Оттуда решила попробовать пройти в запретную зону в библиотеку. Ее судьба очень тревожит. По приказу нужно было являться на работу до 28-го числа. Сегодня 29-е уже, и не знала, смогу ли пройти. На Безаковской никакой загорожи. Идут по ней войска редкими группами, преимущественно украинцы в немецких формах, и несколько горожан, по внешнему виду тоже без пропусков. До бульвара дошли спокойно. Там сидят и стоят, видно, идущие с фронта. Гражданских прохожих нет почти совсем.
Пошла к консерватории. Еще издали показалось, что двери открыты настежь. Открыты окна на первом и втором этажах. Дверь действительно открыта, вырвана. Язык замка наружу. В вестибюле все разворочено, ящики стола наружу, стулья перевернуты. Классы раскрыты, в них все сдвинуто с места, на столе в одном из них пишущая машинка и какие-то бумаги. Разорены столовая, кухня, комната, где были продукты, библиотека. В библиотеке все разворочено, бандуры валяются на столах. Жуткое и тоскливое чувство. Кто разворотил? Немцы? Наши ли?
Состояние напряженного ожидания никак не изменилось. Ничего неизвестно. Люди в городе полны страхов из-за непонятной и совершенной тишины
Наша библиотека в порядке. Шла к ней со страхом, что найду то же, что и в консерватории. Там приказ о конфискации боевым комендантом. И хотя в ней нет ни души, ее не смеют трогать. Вход в нее воспрещен. Во дворе университета немецкий часовой.
До Кузнечной никого, ни одной души. Против ворот нашего дома какой-то подозрительный тип. Ворота, парадное настежь. В квартире, по-видимому, чужие не были. Там противно, нежило скрипят полы. Цветы политы достаточно. Как человека, жаль Лелину пальму.
За квартал от 107-го номера увидела грузовую машину с бочками и мешками, а рядом немца, приходившего на концерты в консерваторию. Подошла, чтобы спросить, почему он еще здесь, а он вместо ответа предложил мне взять мешок пшена. Вышло это совершенно, как манна небесная. Довез и сбросил мне у дома, где теперь живет Элеонора Павловна у Анатоля, мешок пуда в два пшена. Навстречу как раз Элеонора Павловна и Тамара.
Втащили мешок в комнату. Вышли вместе с Элеонорой Павловной, а навстречу нам Кравчуки, идут без адреса искать Элеонору Павловну и сестру Александры Георгиевны. Сказала им адрес, пошли вместе. Людям очень тесно. Спят на полу или вчетвером на постелях. Житомирским жителям повезло: у них на четверых отдельная комната и есть где варить. В квартире Элеоноры Павловны хуже. Их пятеро в одной комнате и масса вещей.
В комнате Василия Кирилловича на 24 метрах одиннадцать человек и трое животных. Хлеба у людей нет. Кое у кого есть сухари и пшено. Потом Элеонора Павловна шла со мной в Артшколу к Нюсе. Чувствует она себя плохо. Идем по более короткой дороге – по железнодорожным путям. Никто по ним не ездит, никто ничего не говорит, ходить не воспрещается. Потом ходили на Скобелевскую. Там в пустой комнате живут, как на бивуаке, наши члены Андреевской коммуны, остатки ее: Анна Ефимовна варит на всех еду, с балкона смотрят на край города. Живут на полу, без единого стола и стула, разложив свои пожитки из чемодана №1. Угостили нас горячим чаем, по которому мы изрядно соскучились.
Состояние напряженного ожидания никак не изменилось. Ничего неизвестно. Люди в городе полны страхов из-за непонятной и совершенной тишины. Ничего не рвут, нигде не стреляют, и, главное, никаких вестей с фронта. Ни газет, ни радио. И люди расценивают эту тишину как зловещее начало каких-то страшных событий. Понять по-прежнему ничего нельзя.
30 сентября 1943 г., четверг
Вчера вспоминали мы трагическую дату 29–30 сентября 1941 года. А люди в городе, перепуганные уже до предела, говорили, что всех нас сгонят на окраины города и перебьют, как евреев. Конечно, с немцев, как говорят, станется. Но надеюсь, им будет не до нас. Сейчас впечатление, что перебивать нас пока не собираются. Но если погонят из города, будет нам плохо. Уже сейчас у многих кончаются остатки продуктов, а если придется идти, то бросим и то, что есть.
Для меня самое страшное в том, что кроме неизвестности об общей нашей судьбе, мучит полная безвестность о моих и безграничный страх, что их-то немцы могут убить — каждую минуту. А позавчера провезли мимо машины с немцами, закованными в кандалы, – есть и такие. С базара иду к Дунечке на седьмой этаж.
Мужчины все сидят, боятся выходить, а женщины пошли в Голосеево за картошкой. Там поля какого-то немецкого хозяйства. На них теперь люди копают картошку. Мужчины смотрят в окно и говорят, что уже двое суток поезда от Киева не отходят.
Мои силы тают. Температура держится упорно выше 37,5. И мучит меня нестерпимый страх за своих и за Галю, которую держат немцы почти на положении арестованной и могут в любую минуту заявить, что ее увозят. Что тогда будет? Нюся должна ехать за ней. А я? Это невыносимое состояние. Что я тогда буду делать? Уехать я не смогу. И снова, несмотря на близкую победу, сумасшествие ко мне подбирается.
2 октября 1943 г., суббота
Ничего не помогло. Сегодня в 6.30 утра Галю увезли и Нюся со стариками уехала за нею. Они уехали в целой колонне машин. Я вышла со своими вещами и стояла все время у ворот, вызывая всеобщее немецкое внимание. Очевидно, они думали, что я хочу проситься в машину. Они стояли во дворе, потом внезапно двинулись. Гали я не увидела. Дедушка крикнул мне: "До свидания, Ира!" А Нюся была в одной из последних машин, нагруженных кухонным инвентарем. Увидев меня, Нюся быстро наклонилась к краю машины и махнула мне рукой. А потом лишь белый ее платок мелькал до поворота. Еще одна немыслимая потеря, еще одиночество в томительном ожидании неизвестности. Страшно мне и тяжело. Вынесу ли все горе, которое мне выпало на долю? И это накануне нашей победы! Поплелась я со своим мешком, который стал теперь невероятно тяжелым, потому что силы мои иссякли. Словно все умерло внутри.
А сейчас вот села писать, потому что это хоть немного от мыслей отвлекает. Много новостей сегодня. Еще, когда тащила свои вещи на Скобелевскую, купила газету. В ней новый приказ для всех украинцев и украинок от 14 до 65 лет: "Не саботировать, а всем немедленно зарегистрироваться на бирже – Дорогожицкая, 24 – и идти на те работы, на которые их поставит немецкое командование". Конец обычный: против тех, кто не будет беспрекословно выполнять распоряжение, будут приняты строжайшие меры. Подпись: городской комиссар Берндт.
Пшено от немца, оказывается, получила не я одна. Он и дальше все сбрасывал мешки по дороге, пока машина его не опустела совсем. Причем его никто не просил
И сразу же по городу волнение. Теперь незнакомые люди приходят, подходят на улице, спрашивают, знаете ли приказ, что слышно? Андреевская коммуна взволнована, не знает, что делать. Но возражает против моего желания идти в город на разведку. А мне все равно ничего не делать нельзя. Надо только обойти облавы. Через базар идти страшно. Там вчера была облава на молодых девушек. Их берут для "обслуживания" фронтовиков. Все удивляются – откуда же берутся фронтовики?
Пшено от немца, оказывается, получила не я одна. Он и дальше все сбрасывал мешки по дороге, пока машина его не опустела совсем. Причем его никто не просил. На Мариинской улице все по-старому. Также можно встретить всех знакомых, узнать все адреса. Народ смотрит на другую сторону, на свои квартиры в запретной зоне. Вид у всех гуляющий, преобладает хорошее настроение. И все спрашивают:
– Какие новости? Что слышно?
Труханов остров, как и слободка, сожжен полностью. Его спалили немцы еще 26 числа. Об этом рассказали Кравчуки. Когда уже никого не было во всем доме, а только они вдвоем остались еще, торопясь по возможности спрятать вещи, над Трухановым островом поднялось пламя пожаров. Было уже темно.
3 октября 1943 г., воскресенье
Сегодня ночь прошла совсем беспокойно. Все время упорно и громко стреляли орудия. Кое-кто говорит, что были взрывы, но ничего не определишь теперь, особенно, если все время громыхает. Это вторая ночь со стрельбой.
Утром принесли газету. Она, против обещаний наших теперешних правителей, выходит ежедневно. В ней новый приказ, который наша коммуна приветствовала как сдвиг в сторону конца. Снова "с целью защиты населения" (не как-нибудь!) выселяется Шевченковский поселок возле дачи Кульженко, Приорка, Голосеево и Демиевка, Васильковская (Демиевская) и Васильковское шоссе, та сторона, что к Днепру. Срок им до восемнадцати часов во вторник. После этого пребывающим в запретной зоне – расстрел. Мы – стратеги – определяем приближение фронта от Дымера и от Обухова.
Семь месяцев нет моих, а сколько еще ждать? И если раньше потеря вещей не имела значения, то теперь обидно, что ничего не сохранила для них
У нас не было ни одной картошки. Несмотря на воскресные облавы, пошли на огород. Пока зашли за Дунечкой, потом на Кузнечную (оттуда шли Элеонора Павловна, Катерина и Мария Викентьевна), было уже двенадцать часов. Это мое последнее, самое печальное путешествие на город. Все очень знакомо и оттого нестерпимо грустно. Сегодня был очень жаркий день, а тени не было совсем. Демиевка, не спеша, переезжает.
Не пошли лесом, там было бы еще тоскливее. И, кроме того, вчера была устроена облава на женщин, которые ходили к Красному трактиру на общественные огороды. Наша картошка в яме цела. Кроме нас, на всех огородах нигде ни одной души. Кто-то из соседних хозяев посеял уже озимый хлеб, а теперь его выселяют.
На поле канонада слышна так, что даже как-то не по себе делается. Потом где-то близко стреляло орудие, и снаряды свистели противно над головой. Нас было семеро. Сейчас душный, совсем летний вечер. В стороне Демиевки вспышки не то выстрелов орудий, не то грозы, уж не знаю теперь.
Тонкий прожектор часто и очень коротко освещает небо и сейчас же гаснет. Очевидно, советский. Перед вечером у нас звенели стекла от выстрелов орудия, которое возле нас. Сейчас совершенно тихо. Только молодежь во дворе поет немецкие песни. Я пишу в печке при каганце, потому что в нашей комнате нет ни единого стола и только один стул. Часть коммуны спит уже на своих бивуачных местах, а часть сидит на балконе, и все друг друга спрашивают:
– Когда же конец нашим испытаниям?
Сегодня третье число. Семь месяцев нет моих, а сколько еще ждать? И если раньше потеря вещей не имела значения, то теперь обидно, что ничего не сохранила для них. И ничего не могу сделать, как и все время ничего не могла сделать, чтобы им помочь.
Где-то Нюся теперь? Удалось ли ей добраться до Каменца к своим? Увидимся ли когда-нибудь?
5 октября 1943 г., вторник
За новостями необходимо выходить в город. Там известно уже, что на биржу нельзя показываться. Кто пошел туда, не вернулся. Отпускают назад только стариков. Вчера железнодорожников заперли в вагоны и куда-то потащили. Это сообщила жена одного из них, наша соседка по Андреевскому спуску, которая убежала где-то через задние дворы. По поводу фронта известно лишь, что в Обухове очень слышен непрекращающийся бой, а из Белой Церкви всю полицию переселили в села, которые ближе к Киеву.
В городе канонаду слышно лишь утром и ночью, когда совсем тихо. Уже люди совсем истомились ожиданием. Все строят стратегические планы. Одни говорят, что еще долго ждать, другие – что уже скоро. Нервов ни у кого не хватает.
Сегодня ночь была сравнительно спокойная. С вечера рявкала пушка – наша соседка, – и еще какое-то близкое, дальнобойное. Под утро было два взрыва.
Немецкие бомбовозы стаями летают в сторону фронта. На стадионе возле нас поставили двенадцать танков, пришедших со стороны Пущи. Их закрыли ветками деревьев.
Уже вечер. Стемнело. У парадного волнуются жильцы дома, в котором живем. Пять женщин вчера ушли на Сырец копать картошку и не вернулись до сих пор. Дунечка еще вчера со своими компаньонами ходила на Красный трактир за картошкой и капустой. Сегодня уже нельзя идти. Пока написала эти несколько строк, началась непрерывная канонада. Стреляют все пушки, расположенные возле нас. А народ мечтает о приходе наших и о том, чтобы скорее вернуться домой.
6 октября 1943 г., среда
6-го октября – мы сидим на Скобелевской. Собирались на два дня. Все бралось с собой на два дня. А сегодня уже двенадцатый день. Раньше все томились от ожидания и неизвестности. Сейчас все томятся еще больше, но уже не от стремления вернуться домой в свои квартиры, а от боязни угона из города. Вчера принесли из управы сведения, что кто-то уже видел такой приказ об освобождении всего города от населения. И что этот приказ будет опубликован седьмого или девятого, то есть в день выхода газеты.
Сейчас на улице бегут женщины и кричат:
– Предупредите мужчин об облаве!
У нас наблюдательный пункт на балконе. В соседних дворах мужчины побежали куда-то в сады. Женщины закрывают их ветками.
В доме волнение. Немцы вошли в наш флигель. Ну и история! Уже час дня, облава началась в десять часов. И самое ужасное, что в эту облаву попала возле нас Элеонора Павловна. Мне сказали, что видели женщину, похожую на нее, действительно она. И вот уже около двух часов через окно стараемся определить, что с нею будет. И не могу выйти, потому что немедленно попаду тоже. Облава продолжается. Мужчины прячутся. По улице идут только женщины с детьми. Немцы проверяют у них документы.
В начале облавы Любовь Васильевна говорит:
– Хоть бы воздушная тревога была!
Только она это сказала, как появилось двадцать советских самолетов, и усиленно начали бить зенитки.
Самолеты пролетели. Тревога окончилась и на ход облавы не оказала ровно никакого влияния.
Не нахожу места от волнения за Элеонору Павловну. По-настоящему, мне следовало пойти с нею, раз ее захватили. Но не могла решить, могу ли это сделать, и теперь это мучит меня
13.30
Облава продолжается. Захваченные, в группе которых и Элеонора Павловна, сидят за забором. От Элеоноры Павловны принесли записку. Она пишет, что это "для общего образования", как говорит Андреевская коммуна, и просит прислать какую-нибудь кофточку. Она в летнем платье, в балетках и без чулок. До записки никто не решался идти. Теперь Анна Ефимовна согласилась выйти. Спешу, стягиваю с себя кофту. Любовь Васильевна дает чулки.
Элеонору Павловну не отпустили. Надо во что бы то ни стало выйти сказать на Кузнечной. Андреевский спуск волнуется, как я пойду. Одеваю торбу – с сухарями, мылом, полотенцем. Документы на груди. Кофта в руках. Готовая к тому, что заберут. Места себе не нахожу от волнения за Элеонору Павловну. По-настоящему, мне следовало пойти с нею, раз ее захватили. Но не могла решить, могу ли это сделать, и теперь это мучит меня.
Иду на Кузнечную. По дороге народ спокоен. Облав впереди нет. На улицах толпами люди, сидят, стоят, гуляют. Жилянская, Бульонская, Кузнечная, как бульвары. Мужчин тоже очень много. Бегу бегом. В этих районах облавы не было. До 107-го номера осталось три дома. Останавливают. Как раз против 107-го – немецкая машина.
Говорят: "Хватают!" Опять волнение. За три дома не дойти! Прошу у какого-то мальчишки карандаш. Какая-то женщина обещает отнести записку. Но машина уезжает. Можно идти.
Катерина и Тамара хватаются от моего известия за сердце. Марии Викентьевне боятся сказать. Но хорошо, что я пришла. Оказывается, Элеонора Павловна собралась пробраться в запретную зону в свою квартиру. Не пришла бы к ночи, решили бы, что убили ее.
7 октября 1943 г., четверг
К утру был сильный взрыв. Ночью несколько выстрелов. Еще, кажется, никогда так не ждали газету, как сегодня, а она принесла очень малоинтересные новости: приглашение оставшихся фольксдойче и научных работников зарегистрироваться, чтобы не потерять пайки.
В сводке: планомерно, без препятствий со стороны врага отошли на северо-запад от Демидова (то есть за Пущей). Утро прошло совсем спокойно. Солнце сияет. Никаких облав. И никаких разговоров о переселении. Вопросы задаются только о том, когда же придут большевики? И все задают только один вопрос: "Когда же это окончится?" А положение наше день ото дня все сложнее и сложнее. Кроме облав и окончательного разграбления квартир, ничего в перспективе ближайших дней. И в добавок к этому — голод.
Не могу больше терпеть неизвестность в отношении Элеоноры Павловны. Иду в город. Нигде не было облав, кроме нас. По дороге рассказывают о том, как вывезли всех железнодорожников; о том, что бьются в Гостомеле; о том, что за Киевом ад кромешный. Немецкая армия лавиной движется назад, съедает все на своем пути и всех гонит за собой. Киевляне, ушедшие пешком из Киева, уже в Попельню приходят голые, как липки. А потом стараются пробиться снова в Киев. До Кузнечной не смогла дойти. Слишком поздно.
8 октября 1943 г., пятница
Никаких новостей, никаких изменений. Настоящий извод. Сегодня 13 дней ожидания вместо предполагаемых двух. Ничто не выяснилось и не выясняется. Наши наблюдатели с балкона смотрели, как ворочают дула пушек. Эти пушки бьют чаще, чем в прошлые дни. Два раза в несколько часов. Страшное чувство, что эти пушки бьют по нашим людям, которые приближаются. И между тем, если пушки молчат, то кажется, что фронт не движется к нам. И это чувство у всех: если стреляют – значит, большевики движутся к Киеву; молчат – значит, наши не приближаются. И все стонут:
– Хоть бы кто-нибудь сказал, когда придут большевики.
Сегодня ночью появились тучи и стало холодно. Не видно было Ориона. Ночью месяц еще холоднее чем вечером, а Орион без конца напоминает страшный март этого года. Элеонора Павловна, по сведениям Марии Викентьевны, должна завтра вернуться. О Нюсе больно думать. Татьяна, Леля, Шурка, мама и Нюся целые ночи либо снятся, либо видятся наяву. Читать невозможно. Именно теперь масса возможностей привести в порядок дневник, но делать ничего не могу. Со мною листки, написанные после трагического марта. Остальное зарыто в землю, и я даже не знаю, где именно. Это от меня спрятали, чтобы не сожгла его в припадке отчаяния.
Сегодня решила выйти с утра. Мешок с сухарями на боку на случай облавы. Из всех окон на Жилянской ловят знакомые.
На обратном пути обошла три облавы. Теперь знаю проходные дворы с Жилянской на Саксаганского и шныряю прямо в них от облав.
Уже смеркалось, когда та же женщина, что и в первый раз принесла записку от Элеоноры Павловны, снова принесла от нее записку и ключи от квартиры. Новости не хорошие, но и не безнадежно плохие. Элеонора Павловна на даче Кульженко в роли кашевара и главного завхоза. Первый день, то есть вчера, они целый день ничего не делали, ели только картошку в мундирах и были в полном отчаянии от слухов, что их вывезут в неизвестном направлении. Сегодня же всех повели на работу в Пущу за 10 километров. А Элеонора Павловна в числе других женщин осталась варить обед. Выдали им вермишель и мясо для обеда, обещают давать хлеб.
Сегодня идти на Кузнечную поздно. С утра завтра побегу через облавы. Надо только, чтобы все было с собой на случай попадания впросак.
9 октября 1943 г., среда
К утру очень была слышна канонада и сильный взрыв. А потом весь день совсем тихо. На Подоле второй день горит поликлиника водников, несколько домов на Андреевской улице и элеватор. До товарной станции и за нею немцы сняли уже и вывезли все рельсы. Оставили только запасной путь. Пожары, разборка пути – как будто свидетельство того, что немцы отступают. Но все равно ничего не понимаем, ничего не знаем.
Еще не совсем рассвело, как во дворе закричали продавщицы:
– Кто забыл прочесть газету?
Это звучит издевательски. Газету так ждут, что люди прямо из постелей выскакивают на балконы и вопят:
– Подождите, сейчас выйдем.
Газета совсем пустая. Это "Последние новости" по-русски. Никаких приказов, как бывало.
10 октября 1943г., воскресенье
Принесли записку от Элеоноры Павловны. Тон записки более спокойный. Пишет, что их кормят, что будут они там десять дней. А нам все передает, что нужно устраиваться на любую работу, только бы продержаться в Киеве.
День прошел без облав. Потом зашла я к женщине, которая принесла две первых записки от Элеоноры Павловны, и видела ее на новом месте в лагере. Пришла к ней, а там уже дома ее невестка, которая попала в облаву вместе с Элеонорой Павловной. Оказывается, она убежала, Элеонора Павловна варит обед, а все остальные ходят рыть окопы к самому берегу Днепра. Там советские пули летают над головой, а нашим людям запрещают разговаривать и петь, чтобы их не услышали советские войска.
Работа, по словам женщины, трудная. Она рассказала, что когда их привезли, сразу же большинство женщин с детьми и старух отпустили. Ее и Элеонору Павловну оставили: Элеонора Павловна не призналась сразу, что говорит по-немецки. Но когда узнала, что прибыла группа мужчин, которые три дня совсем ничего не ели, она сейчас же заговорила с немцем, поехала с ним на какой-то огород, накопала картошки, сварила ее. И это в первый раз получили еду – по пять картошек в мундирах. С такими новостями шла я домой, и, несмотря на поздний час, едва не попала в облаву.
11 октября, понедельник
Сегодня упорно говорят о всеобщем изгнании населения из Киева и что приказ будет завтра. Также усиленно говорят о вагонах, которые стоят на всех путях возле города. Готовим мешки №1. Остальное бросим. Главное: не растеряться всем. Поэтому всем своим близким раздали Каменец-Подольский адрес Нюсиных родных.
Беда, если разбросает нас в разные стороны. А что будет с моими несчастными? Волнуюсь за них, волнуюсь за Элеонору Павловну. Как вырвать ее из-за проволоки? Голова разрывается от полной неизвестности. Сидеть дома не могу. Снова иду на Кузнечную. Снова обхожу облавы. И ничего, кроме этих слухов, нового не узнаю.
12 октября 1943 г., вторник
Вернулась Элеонора Павловна! Я застала ее днем, когда пришла к ним в 107-й номер, узнать, нет ли вестей от нее. Теперь и хорошие новости вызывают глубокое волнение. Но, слава богу, слава богу, что она вернулась!
В городе страшное напряжение. Уже все говорят только о всеобщем угоне. Никто ничего определенного не знает. Но слухи, страшные слухи овладели всеми людьми. Что будет? Что с теми, кто был забран гестапо за все эти годы? Где они? Что с ними? Эти мысли сводят с ума.
25 февраля 1944 г., пятница
Мы в Каменце. В родном городе Нюси и ее семьи. Он еще в немецких руках. Мы еще не дожили до освобождения. Но мы среди своих доброжелательных людей. Позавчера Галя, Нюся и я добрались сюда из Проскурова. Нам удалось бежать.
Мы прибыли сюда в День Красной армии. Ровно год назад в этот день мы отмечали его вместе с моей семьей. Все были живы. А теперь их нет. И нет надежды на то, что их не убили. Время идет. Освобождение приближается, в этом уже нет сомнения. Но все нестерпимее сознание, что я не в Киеве и ничего не могу о них узнать. И ничем не могу помочь.
Я уехала из Киева 14 октября. Уехала против своей воли, вопреки своему категорическому решению ни за что из Киева не уезжать.
Прошло четыре долгих, мучительных месяца. И вот только сегодня я снова возвращаюсь к своим запискам, пользуясь лишь обрывками записей на клочках и по памяти. Мне приходится восстанавливать то, что было за это время, вернее, только главное, потому что записную книжку, где я писала регулярно, мне пришлось уничтожить.
В тот день, в четверг 14 октября, все так же с противогазной сумкой на боку шла на Кузнечную. Во вторник 12-го числа вернулась Элеонора Павловна. Это было как праздник, как чудо. Настроение у нее было приподнятое. Из своего временного заключения, огражденного колючей проволокой на даче Кульженко, она слышала голоса красноармейцев с левой стороны Днепра, певших наши светские песни. Им в этом лагере запрещали громко говорить, чтобы голоса их не были слышны нашим на той стороне.
Элеонору Павловну не отпустили. Она бежала из лагеря, пролезла под проволокой. Дома у них был еще небольшой запас пшена. Так что пока не голодали. С возвращением Элеоноры Павловны громадная тяжесть свалилась с меня. Но легче мне не стало. Время шло. Оно мчалось и топталось на месте. И я ничего не могла узнать о Леле, Тане, Шурочке. Тогда я медленно возвращалась домой, обходя места возможных облав. Погода была тихая, теплая. Время золотой осени кончилось. Но мы все радовались тому, что сухо. Ничего я тогда не подозревала.
За мною приходили гестаповец и полицейский. Сообщение – как обухом по голове. Я не верю. Это нелепость
Настроение в городе странное, сложное. Приподнятое и подавленное одновременно. Народ словно притих как-то. Слухи о том, что наши на левой стороне Днепра. И слухи о том, что всех из Киева вывезут, а Киев сожгут. Это ожидание и неизвестность были написаны на всех лицах. А на углу Скобелевской, как в марте, Любовь Васильевна и Надежда Васильевна встречают меня и говорят, что домой мне идти нельзя. За мною приходили гестаповец и полицейский. Сообщение – как обухом по голове. Я не верю. Это нелепость. В такой неразберихе, когда никто не знает ни одной фамилии, ни одного адреса. Считаю, что это ошибка, что искали вовсе не меня. Но они говорят, что называли только мою фамилию. И никого другого не взяли. Сказали им, что я здесь не живу.
– Тебе придется уехать из Киева, – сказали мои друзья.
 Киев зимой 1944 года. Фото: warmuseum.kiev.ua
Киев зимой 1944 года. Фото: warmuseum.kiev.ua
Сначала ничего не понимаю. Слишком уж все неожиданно. Потом прощаюсь с ними. Решаю идти искать Бенцинга. Известно, что он в каком-то отделении культотдела штадткомиссариата на Брест-Литовском шоссе.
Найти его оказалось нетрудно. Перед комнатой, на которой висела бумажка с его фамилией, в голой, ободранной приемной сидели просители из наших людей. Их было много. Среди них увидела и знакомые лица. Пока собиралась спросить, чего здесь просят, из комнаты вышел Бенцинг и увидел меня. Он удивился и спросил, что случилось, почему я пришла, и пригласил войти. Он остановился у двери, показывая, что не имеет времени заниматься мною.
– Вам известно, что будет с нами и с Киевом? – спросила я. Бенцинг пожал плечами.
– Я сказал вам об этом еще три недели назад. Население вывезут в Германию, а Киев сожгут. Уже есть приказ. Эвакуация начинается завтра.
– Помогите мне добраться до Каменца-Подольского, – попросила я. Он удивился, нахмурился, потом напомнил мне, что я никак не хотела уезжать из Киева. – Что произошло? – спросил он.
Я молчала.
Тогда он спросил, могу ли я собраться сейчас, немедленно, потому что сегодня последний товарный вагон идет в Каменец.
– Я помогу вам попасть в него. Но не могу гарантировать безопасность. Если в пути кому-нибудь вздумается его распечатать…
– Постараюсь быть вовремя, – сказала я.
На углу Скобелевской Любовь Васильевна и Надежда Васильевна по-прежнему ждали меня уже с моими вещами. В дорогу мне дали котелок пшенной каши, несколько вареных картофелин и флягу с водой. Уже темнело. Они проводили меня до Степановской, а дальше я пошла одна. Проститься с Дунечкой и Элеонорой Павловной они должны были за меня. В темноте я с трудом нашла состав, который мне назвал Бенцинг.
Два раза мне пришлось показывать бумажку, которую он успел мне дать перед уходом. Наконец я добралась на место и при неярком свете приглушенного фонаря различила фигуру Бенцинга. Он стоял с кем-то в цивильной одежде и опирался на палку. Когда подошла, он протянул мне небольшой сверток, пожал руку и сказал стоявшему с ним человеку, чтобы тот помог мне взобраться в вагон.
– Будьте счастливы, – сказал он.
Я поблагодарила его. И дверь вагона-теплушки задвинулась. Услыхала, что его запирают. Потом щелкнул пломбиратор. И они ушли. Я осталась в полной темноте и тишине.
Разобрать, где находится состав, не было никакой возможности. Стоял он всегда далеко от станций, из чего заключила, что это последний вагон в эшелоне
В сенях вагона были щели, и понемногу, привыкнув к темноте, я стала различать слабые полоски света. Они были настолько мизерны, что рассмотреть содержимое вагона не было никакой возможности. Тогда я ощупью стала передвигаться и обнаружила, что одна половина вагона совсем пустая, во второй же стояли деревянные ящики, в некоторых местах – до потолка, но не везде. Пока я искала возможности как-то утроиться, чтобы лечь или хотя бы сесть, поезд тронулся.
Не знаю, сколько времени двигался состав. Мне показалось, что недолго. Потом он остановился. Снаружи не доносилось никаких звуков. Все та же глубокая темнота и тишина. И еще холод, который с каждой минутой становился все более мучительным. Когда вагон двигался, ящики начинали перемещаться, потому что их было немного. И первую часть пути, уверенная, что под лязг тормозов и шум колес меня не будет слышно, я постаралась сделать себе углубление между ящиками. Пока таскала их, холод не чувствовался. Потом я забилась в свою щель. И тогда он набросился на меня со всею яростью.
Бесконечная ночь без сна. Без движения, потому что состав стоял и стоял. Потом, как казалось, перед утром он двинулся, медленно. Потом снова встал. Рассвело. А состав все стоял. Когда заставила себя встать, было совсем светло. Через небольшие окошки, забитые решеткой, в вагон проникал свет. И если бы не общий трагизм ситуации, можно было бы расхохотаться. В вагоне были те девять ящиков, которые паковали мы в библиотеке, с клавирами дублетов русских опер и ящики с немецкими изданиями, которые были привезены в библиотеку для "просвещения" солдат Рейха и которые потом исчезли из библиотеки. Оригинальная оказалась у меня роль – сопровождающей литературу нацистской пропаганды, которую немцы спешно увозили вслед своей отступающей армии.
Потянулся мучительный день. Днем стало несколько теплее. В редкие минуты, когда состав двигался, я ходила по вагону, топала ногами. Кроме того, я перемотала портянки в сапогах, предварительно растерев ноги. Еды у меня было достаточно. В свертке, который мне дал Бенцинг, был кусок хлеба. Не представляла себе, что езда продлится больше, чем сутки. Но разобрать, где находится состав, не было никакой возможности. Стоял он всегда далеко от станций, из чего заключила, что это последний вагон в эшелоне.
Днем в щели я видела разрушенные станции и полустанки, мимо которых шел поезд. Потом день кончился, снова наступила темнота. И снова состав остановился, как казалось, на целую вечность. Вторая ночь без сна, в безуспешной борьбе с нестерпимым холодом. Наступило второе утро моей эвакуации. И из гортанной немецкой речи проходивших мимо вагона солдат поняла, что поезд стоит в Казатине. От этого известия мне стало не по себе. Выходит, что в течение полутора суток состав не прошел и половины пути. А если он будет идти неделю? К концу второго дня пришлось перетрусить. Возле вагона остановился немецкий патруль, и кому-то из них захотелось посмотреть, что в вагоне. Я вспомнила предупреждение Бенцинга. Но кончилось тем, что они помочились возле вагона и ушли.
Временами сознание возвращалось ко мне, и я понимала, где я и что со мною. Но потом снова начинался бред
Потом снова пришла ночь. Только к холоду прибавилась еще жажда. В середине второго дня кончилась вода. Третья ночь. Эшелон двигался, потом снова стоял в темноте. Я забилась в свою щель между ящиками. И мне казалось, что засыпаю. Но это не был сон, потому что я слышала все, что было за пределами вагона. А вагон вдруг осветился неярким фосфоресцирующим светом. В нем появились люди. Я не знаю, когда они пришли. Они молчали. Сначала мне показалось, что они стоят. Потом я стала присматриваться. Нет, они сидели. Кто они? Я знала, что мне необходимо подняться, но неведомая сила приковала меня к месту. А потом, как шелест ветра, прозвучало мое имя. И теперь я ясно увидела. Это мои погибшие. Они сидят неподвижно. Лица и руки у них прозрачные, как у той еврейской девушки, которую несли в Бабий Яр. И у них мертвые глаза.
 Погибшая племянница Хорошуновой Шурочка. Фото из семейного архива Натальи Гозуловой
Погибшая племянница Хорошуновой Шурочка. Фото из семейного архива Натальи Гозуловой
– Ты забыла нас, – тихо сказали они.
– Нет, нет. – Мне казалось, что я кричу, но не могла произнести ни звука. И тогда я увидела ясно, что их засыпает песок, пропитанный кровью. Не знаю точно, сколько длилась эта пытка. Потом, очевидно, наступил день, потому что в вагон проникал дневной свет. Временами сознание возвращалось ко мне, и я понимала, где я и что со мною. Но потом снова начинался бред, правда, он не имел теперь очертаний людей или предметов. А только сыпался и сыпался окровавленный песок.
Потом вдруг резкий стук заставил меня очнуться. Вагон стоял. Кто-то открывал дверь. Было светло. И я услышала знакомые голоса. Тогда, шатаясь от красного тумана в глазах и шума в ушах, я поднялась, выбралась из-за ящиков и подошла к двери. Не знаю, неожиданность ли моего появления или вид у меня был ужасный, только все трое – Луиза Карловна, Николай Владимирович и Дарьян – это их голоса я услыхала – вскрикнули вместо приветствия: – Что с вами? Вы больны?
– Пить, – только смогла произнести.
Нюся и Галя не доехали до Каменца. Оказалось, что они застряли в Проскурове. Но было известно, что они обе здоровы и только ждут возможности бежать к своим
Это было 18 октября. Потом вместе с ящиками меня привезли в помещение каменец-подольского архива. Как мне объяснили, это было в старом городе. Предложили поесть, но смогла проглотить лишь немного кофе. И, несмотря на настойчивые уговоры Луизы Карловны и Николая Владимировича, ушла, чтобы добраться как можно скорее к Нюсе. Не знаю, сколько времени я шла. Прохожие, должно быть, считали меня пьяной. Так меня качало и заносило из стороны в сторону. И все же я дошла до Мукши, где должна была быть Нюся. Но нашла только ее стариков. Нюся и Галя не доехали до Каменца. Оказалось, что они застряли в Проскурове.
Это было новым ударом для меня. Но было известно, что они обе здоровы и только ждут возможности бежать к своим. В этот же день не могла уже двинуться к ним. И я проспала каменным сном до следующего утра. Я дотащилась в Проскуров, когда уже совсем стемнело.
Товарняк, которым я добиралась, остановился далеко от станции, и я долго шла, спотыкаясь о бесконечные рельсы. Потом какая-то пожилая женщина объяснила, как добраться до казарм, где должен быть и Gerdtelager. Они были за железнодорожными путями, по другую сторону от города. На территорию их я вошла после шпершунде. Темно, пустынно. Ни охраны, ни каких-либо других людей. Справа стояло здание, в котором светилось несколько окон. У дверей под тусклой лампой стоял немецкий часовой. Я спросила его, где найти русских рабочих. Он показал на четырехэтажное здание в глубине пустыря. И вот наконец я стучу в замызганную дверь комнаты на третьем этаже.
Нюся сказала, что ждала меня, хотя мы договорились, что из Киева я ни за что не уеду. Но им уже было известно о всеобщем угоне населения, и тревожные слухи о судьбе города волновали всех.
– Ну и вид, – сказала она, глядя на меня. – Остались только нос и глаза.
Но она была рада. О себе не говорю. Мы снова были вместе. И это было главное. Две следующие ночи и весь день я спала, почти не просыпаясь. А 21-го числа утром Нюся повела меня наниматься на работу. Галя продолжала работать, как и раньше, в картотеке игр и музыкальных инструментов. Нюся работала уборщицей в солдатской казарме. А меня обещали принять посудомойкой в казино, здесь же, в одном из этих казарменных домов, стоящих на пустыре.
Бухчик вдруг занял меня такой работой, что, наверное, пока жить буду, не забуду. Он приказал мне сесть за стол и поставил передо мною огромное блюдо вареных кур
У входа в дом, к которому я подходила в вечер приезда, стоял военный, немец, в форме ефрейтора. Нюся поздоровалась и сказала: "Вот, Ирина".
Немец посмотрел на меня скептически и сказал по-русски:
– Что ты мне привела? Разве она может работать? Она же сейчас сломается.
– Я буду помогать, – сказала Нюся.
– Gut, – сказал немец.
Он протянул мне руку и представился: "Ефрейтор Бухчик".
Так я поступила на работу.
Мы долго шли по коридорам до помещения казино, которое оказалось обыкновенной казарменной столовой, состоящей из большой, совершенно голой комнаты с пробитыми внизу стенами, и большой кухни с огромной, сверкающей чистотой плитой и громадным сооружением для мытья посуды. Кухня от казино отделена широким пустым коридором, в конце которого находились уборные.
 Хорошунова (на заднем плане в центре) и Нюся (крайняя слева). Фото из семейного архива Натальи Гозуловой
Хорошунова (на заднем плане в центре) и Нюся (крайняя слева). Фото из семейного архива Натальи Гозуловой
В мои обязанности входило мыть все эти помещения, приносить из солдатской кухни канистры с едой и трижды в день мыть всю посуду, примерно по 400 предметов после каждой еды. Бухчик сразу познакомил меня со своей казино-командой. Это были наши девчата Людмила и Лида, официантки, также принудительно вывезенные из Киева. Я должна была сменять местную девушку Тею, как выяснилось Феклу, которая, как и я была посудомойкой.
В тот день она дежурила, а Бухчик вдруг занял меня такой работой, что, наверное, пока жить буду, не забуду. Отправив Тею за чем-то в солдатскую кухню, он приказал мне сесть за стол и поставил передо мною огромное блюдо вареных кур, которые были еще теплые. Он показал мне, что нужно снимать мясо с костей, и вдруг сказал:
– Ты будешь чистить курки – вот так, вот так, и будешь essen сколько хочешь.
Я не понимала его и считала, что просто напутала что-то в его смешанном немецко-русском языке. Но он рассердился. И повторил приказание еще раз.
– Ты будешь кушать сколько хочешь. И возьмешь самые лучшие куски, чтобы тем собакам меньше осталось.
Он показал рукой в сторону казино. И так, повторяя слово schnell, schnell, он, пока вернулась Тея, заставил меня поесть.
Это было настолько неожиданно, звучало таким невероятным контрастом с голодом, с этими годами жизни впроголодь и вообще со всем, что было, что я никак не могла заставить себя есть. И все же поела. В этот день мало что пришлось делать. Когда же около семи часов мне разрешили идти домой, Бухчик догнал меня на лестнице и всунул в руки кусок настоящего хлеба. На следующее утро я к шести часам утра стояла уже возле посудницы. В нее была свалена гора грязной посуды. Началась моя работа на новом месте. Дежурить нужно было через день с шести утра до 12 ночи. Распорядок дня не оставлял времени даже для малейшей передышки. И если бы мне не помогали, я, конечно, не смогла бы выдержать.
Алоиз Бухчик, силезский немец, не скрывал своей ненависти к фашизму и постоянно говорил, что хоть бы скорее двигались советские войска
Посудомойкам не полагалось входить в казино, когда там были офицеры. Обслуживали Людмила, Лида и Бухчик.
Трижды в день из солдатской кухни доставлялись 30-литровые канистры, в которых всегда одно блюдо – так называемый Eintopf – соединение вместе первого и второго. Кашеобразная масса, состоящая из мяса, обычно свинины, крупы или лапши и картофеля. Все это очень густое, разваренное и жирное. Его ели как основное блюдо все столовавшиеся в казино.
Нести канистры, а потом мыть их входило в обязанности посудомоек. Одна я при всем желании поднять канистру не могла. Поэтому, когда Бухчик был свободен, он нес их со мною. Иногда же вызывал кого-либо из рабочих, наших людей, чтобы помочь.
 Каменец-Подольский в годы немецкой оккупации. Фото: Expandborders / ua.livejournal.com
Каменец-Подольский в годы немецкой оккупации. Фото: Expandborders / ua.livejournal.com
Уже в третье мое дежурство я узнала много о Бухчике. Обычно после того, как основная обеденная посуда была вымыта, убрана столовая, Бухчик садился на высокий табурет, ноги ставил на перекладину и, подперев голову руками, начинал русский разговор. Людмила и Лида помогали мне вытирать ножи, вилки, ложки. Это был у нас своеобразный "тихий час".
Бухчик всегда спрашивал, знаем ли мы, что на фронте и где теперь советские войска. Он, Алоиз Бухчик, силезский немец, не скрывал своей ненависти к фашизму и постоянно говорил, что хоть бы скорее двигались советские войска. Он очень прилично, почти без акцента говорил по-русски. И сразу сказал мне то, что Людмила и Лида знали раньше. В гражданской жизни он был хозяином небольшого двухэтажного отеля в горах Силезии.
– Когда ваши выиграют войну, я вернусь домой и напишу на своем отеле: "Вход фашистским офицерам и собакам категорически verboten". Он сказал, что Нюся ему рассказала о судьбе моей семьи, и он сказал, чтобы я не беспокоилась и спокойно работала.
Дни шли. Не уменьшалось внутреннее напряжение, несмотря на то, что мы снова были вместе с Нюсей. Со всех сторон приносили самые страшные слухи о Киеве. Говорили о полном изгнании жителей и о насильственном вывозе тысяч наших людей в Германию. Упорно говорили о разрушении всего города и о том, что он подожжен со всех сторон и горит. Отчаяние от неизвестности о судьбе моих, от сознания, что я бросила их, сжигающая по-прежнему температура, которая к вечеру все еще повышалась выше 37,5°, непосильная работа, все это заставляло непрерывно дрожать все внутри и лихорадочно ждать разрешения событий. Но и сейчас, как и всегда, страшное и доброе шло рядом.
Нюся помогала мне все время. Она примерно к часу дня кончала свою работу и приходила мыть полы вместо меня. Бухчик, внешне строгий, старался облегчить мое положение. Уборные он мыл сам. И не забывал напоминать Людмиле и Лиде о помощи мне. А они были хорошие советские товарищи. Где-то они теперь? Как сложится дальше их судьба, когда мы теперь уже не вместе?
26 февраля 1944 г., суббота
Мы все сейчас не работаем. Времени много свободного. Все так же напряженно ждем развития событий. А пока хочу дописать о главном, что было в Проскурове. На какое-то время судьба связала нас – Людмилу и Лиду. Разные судьбы, разные жизни. Людмила – молодая женщина. Муж у нее в рядах Красной Армии, а мать и мальчик шести лет в селе под Харьковом. И она живет в непрестанной тревоге за них. Она очень красивая. И ей трудно приходится, потому что к ней без конца пристают столующиеся в казино. Нужно только отдать ей справедливость – она никому ничего не позволяет. Держит она себя с достоинством и независимостью, а вырываясь с подносом из казино в кухню, всегда чувствует огромное облегчение. Хорошо, что ее постоянно защищают от приставаний два самых старых офицера – полковник Юнг и майор Рознер.
Лида – полная противоположность Людмиле. Худенькая, неприметная. У нее только очень красивые грустные глаза. Очень страшные вещи рассказывала мне Лида. У нее есть только мама. Скромные советские люди, они более полутора лет помогали партизанам. Но их выдали, и мать забрало гестапо. Прошло более двух месяцев полной неизвестности. Лида была уверена, что никогда не увидит матери. И вдруг ее мать вернулась.
Это было совершенно неслыханное событие, ибо из гестапо не возвращались. Но вернулась не мать Лиды, а какая-то чужая, сломленная женщина, с пустыми глазами, ничего и никого не узнающая вокруг. Через некоторое время она рассказала: ее пытали. В одиночном карцере, где можно только стоять, где нельзя склонить или отклонить голову, ее пытали водой, падающей каплями с высоты на темя. Когда она, не выдерживая, теряла сознание, ее гестаповские медики приводили в себя и снова запирали в карцер для продолжения пытки.
Сейчас мать Лиды была в селе под Киевом, и страшные слухи, которые все время говорят об уничтожении Киева и всего вокруг, держат Лиду в состоянии отчаяния. Понятно, что судьба моей семьи и ее матери сблизила нас. И мы обе не верили себе, что на нашем пути оказался такой человек, как Бухчик.
До нас доносились слухи о том, что партизаны действуют в самом Проскурове и вокруг него. Во многих случаях они парализуют силы немцев
В последних числах октября появилась и радость: стало возможным слушать советское радио. В помещении казино, угрюмой голой комнате, стояло два длинных стола, покрытых клеенкой, и стулья на железных ножках. Не было даже обязательного портрета Гитлера. Но стоял там великолепный радиоприемник. Когда там офицеры собирались на ужин, звучала громко назойливо неизменная немецкая шлягермузик. Вот этот приемник стал включать Бухчик в тот час, когда между обедом и ужином нужно было убирать столовую. Он находил Москву, оставлял меня возле приемника, а сам шел в коридор "на вахту". Было установлено, что если он застучит ложками, я должна немедленно переключить ручку приемника. Но за все дни до 5 ноября мне удалось слышать только второстепенные сообщения. И трудно было установить, где проходит фронт и что с Киевом.
 Каменец-Подольский во время оккупации. Фото: reibert.info
Каменец-Подольский во время оккупации. Фото: reibert.info
В городе мы совсем не бывали. Проскуров – узловая станция, через которую беспрерывно во все стороны шли составы. Без конца везли немецкие войска и технику. Движение никогда не прекращалось.
Общая атмосфера была крайне напряженная. Главное настроение – отступление немцев. Но при этом огромные их силы перебрасывали в сторону Киева, то есть в сторону фронта. В районе вокзала совсем не было гражданского населения. Полностью запрещен был какой-либо проезд местного населения любыми видами транспорта, особенно по железной дороге.
Необходимость бегства в Каменец к своим все настойчивее заставляла нас искать пути для него. Все было напряженно и до крайности неопределенно. Казалось, что чудовищная немецкая машина поглотила все живое вокруг и что она еще очень сильна.
До нас доносились слухи о том, что партизаны действуют в самом Проскурове и вокруг него. Во многих случаях они парализуют силы немцев. Но как найти связь с ними? Здесь это было еще более невозможно, чем в Киеве.
В казармах было человек шестьдесят русских и украинцев. Они выполняли черные работы и жили в подвальном помещении на положении полупленных. Это были либо военнопленные, взятые немцами из лагерей, либо Hiwi, судя по одежде. Заросшие, обтрепанные, как правило, полуголодные или совсем голодные, они медленно двигались под надзором вооруженного немца, пилили дрова, убирали территорию, носили грузы. Какое-либо общение с ними было затруднено не только из-за конвоя, но и потому, что они не доверяли нам. Надо было найти какие-либо пути к связи с ними и определить их настроения.
Одежда Hiwi настораживала нас. Случаи предательства со стороны добровольных наемников, какими были полицейские и Hiwi, были слишком часты, и мы не могли не помнить об этом. К концу моего двухнедельного пребывания в Проскурове только наметились первые шаги к знакомству. Этому способствовал отчасти хлеб, отчасти совместная переноска канистр из солдатской кухни. Хлеб, который давал мне Бухчик регулярно, помог отъесться и мне, и Нюсе, и Гале. И мы могли уже иногда поделиться им с пленными. Но мы еще никого не знали из своих людей.
Нюся была верна себе. Когда я, вся зареванная, прибежала к ней и сказала о Киеве, она очень спокойно, внешне совсем не волнуясь, сказала: Так чего же вы плачете?
Так окончился октябрь. Все последние дни настроение было особенно тяжелым. Временами ночью мне казалось, что я вижу кровавое зарево над Киевом. Но это были очередные галлюцинации, потому что нельзя было увидеть даже гигантское зарево на расстоянии пятисот километров.
Наступило шестое число ноября 1943 года. С утра это был самый обычный день, наполненный кухонной суетой, спешкой, немецкими криками в коридоре. Но каждый из нас мыслями был на той стороне, и мы тихо говорили, ночью – с Нюсей, днем – с Лидой, о том, что советские люди готовятся к празднику Октября. Разные неотложные дела помешали мне вымыть пол в казино до обеда. И как только туда можно было войти, я принялась за эту работу. Наконец все ушли из столовой и из кухни.
Во всем казино были только Бухчик и я. Тогда Бухчик включил Москву. Сначала были обычные каждодневные сообщения о жизни Союза. И вдруг… я не поверила себе. Четкие, ясные позывные Москвы. И такой знакомый голос медленно и твердо, отчеканивая слова, передал сообщение Совинформбюро с приказом-благодарностью Верховного Главнокомандующего войскам 1-го Украинского фронта, шестого ноября на рассвете освободившего столицу Советской Украины – Киев. Ничего нельзя написать о том, что произошло дальше. Нет таких слов, чтобы передать, какое чувство было при этом. Я выбежала в коридор, где стоял Бухчик, и с трудом, задыхаясь от плача, сказала ему, что услыхала. Он молча нахмурился. Потом сказал:
– Вернись, выключи радио и вытри лицо. Когда я снова вышла в коридор, Бухчик позвал меня в кухню, почему-то осторожно, без стука положил на стол ложки. Потом повернулся ко мне и вдруг широким жестом, по-крестьянски, перекрестился католическим крестом слева направо и сказал:
– Gott sei dank, Irene! – И добавил по-русски: Беги скорее скажи своим.
 Горящее здание Дома офицеров на Хрещатике. Ноябрь 1943 года. Фото: archives.gov.ua
Горящее здание Дома офицеров на Хрещатике. Ноябрь 1943 года. Фото: archives.gov.ua
И я побежала искать Нюсю. Пробегая мимо подвала, где жили пленные и Hiwi, я через форточку сообщила им казавшуюся нереальной новость.
А Нюся была верна себе. Когда я, вся зареванная, прибежала к ней и сказала о Киеве, она очень спокойно, внешне совсем не волнуясь, сказала:
– Так чего же вы плачете? Вы же знали, что это должно случиться.
В этом была вся Нюся. С этого дня нам стало много легче и много тяжелее. Киев свободен, а мы здесь. И когда сможем вернуться? И сможем ли?.. Сознание, что Киев снова советский, наполняло жгучей радостью. Мы все же дожили до его освобождения. Но от своего Киева нас отделял фронт. И немцы еще так сильны. Не знаю только, многие ли из них видели, что теперь уже война идет к несомненной победе наших. А пока мы были среди врагов, и трудно было предвидеть, что нас ждет.
Свою записную книжку носила за голенищем сапога. Надежда на то, что когда-нибудь наши люди прочтут о том, что было здесь, в оккупации, заставляет писать
В казино была все такая же напряженная работа. Нельзя было остановиться ни на минуту. Это спасало от необходимости думать в те дни, когда были мои дежурства. Но когда я оставалась одна, до прихода с работы Нюси и Гали, места себе не находила. Я продолжала писать о том, что происходило вокруг. Вспоминая о Шевченко, сшила себе маленькую записную книжку и вела в ней дневник, никогда не оставляя ее в комнате. Ведь кроме нас, в ней жили еще две женщины, чужие и малосимпатичные. Одна из них была парикмахером, вторая, как и Галя, работала в картотеке бельевого склада.
Свою записную книжку носила за голенищем сапога. Пишу об этом так подробно, потому что потеря этой книжки трудно восполнима. Надежда на то, что когда-нибудь наши люди прочтут о том, что было здесь, в оккупации, заставляет писать. Чудовищная война, с одной стороны, попрала все, что некогда называлось человечностью, и обнажила жуткую сущность фашизма. Никто никогда не сможет оправдать гибель и страдания миллионов ни в чем не повинных людей. С другой стороны, наряду с предельной жестокостью фашистов и иже с ними раскрылись высокие моральные, душевные качества особенно нашего народа и многих людей различных национальностей. И среди них – немцев. Логан и пастор Вигерс, Бенцинг и Бухчик, майор Резенер.
Можем ли мы считать этих людей врагами? А рядом скоты, которые идут бездумно убивать наших людей. Назвать их животными было бы оскорблением для животных, потому что звери убивают, только чтобы жить, а не лишь бы убивать. Такие мысли непрерывно мучили меня.
Из шестидесяти человек пленных и Hiwi тридцать восемь исчезли. Нужно было сделать вывод, что мы недостаточно активно ищем возможности бежать
А время не стояло на месте. Прошел ноябрь. Несмотря на изнуряющую работу, температура у меня начала понижаться. Мы больше не испытывали чувства голода. По-прежнему оторванные от своих, не имея известий даже из Каменца, мы не оставляли попыток найти связь со своими людьми.
В окрестностях Проскурова и в самом городе действовали партизаны. По ночам иногда можно было увидеть зарево пожара, были слышны глухие звуки взрывов и отдельной стрельбы. Иногда среди немцев возникала паника, и нередко можно было услышать слово "партизаны". Теперь их никто не называл "бандитами".
В начале декабря пронесся слух о срочной эвакуации лагеря. Ждали распоряжения об упаковке кухонного инвентаря. День пятого декабря прошел в томительном ожидании. Но за утро шестого стало известно, что все остается на месте. В эту ночь из шестидесяти человек пленных и Hiwi тридцать восемь исчезли. Нужно было сделать вывод, что мы недостаточно активно ищем возможности бежать. В тот же день мне удалось поговорить с одним из пленных, из тех, которые остались. Мы уже раньше присматривались друг к другу. В этот раз я его прямо спросила, не знает ли он, кто может нам помочь добраться до Каменца к своим.
– Сколько вас? – спросил он.
– Трое, – ответила я.
Он помолчал. Посмотрел на меня угрюмо и недоверчиво. И сказал:
– Придется немного подождать. Сейчас ни поездом, ни машиной отсюда не выберешься. На дорогах облавы. Обстановка сложная. Наши наступают.
Он внимательно посмотрел.
– Попробуем помочь.
– Мы хотели бы что-нибудь сделать для наших, – сказала я.
Он только усмехнулся. И, не сказав ни слова, вернулся к своей работе. Мы говорили с ним возле солдатской кухни, где они с товарищем кололи дрова.
В ожидании, неизвестности и напряжении прошел весь декабрь. Сильные морозы сменялись слякотью. По-прежнему во все стороны двигалось огромное количество немецких войск. Казалось, что силы их неисчерпаемы.
На рождество часть немцев уехала домой, в Германию. Выходило, что их положение на фронте несколько стабилизировалось
В казино тянулись и мчались одновременно будничные дни. Все так же стремительно носился Бухчик с шипящими яичницами и бифштексами. Все так же непреоборимыми казались горы грязной посуды. И все так же после каждой трапезы столовников казино наполнялось вонью газов, которые они выпускали из своих кишечников. И не раз казалось, что стены столовой обрушатся, потому что кованые каблуки ее посетителей доканчивали их уничтожение. "Светловолосые рыцари", насытившись, выражали свои высокие чувствования, методически разбивая до дранки штукатурку. Они поворачивались на стульях спиной к столу и колотили каблуками по стенам. И столовая стояла обглоданная, как развалина, обреченная на снос. А мы должны были убирать куски, и после каждой обеденной и вечерней еды мыть полы.
На Рождество, которое за границей празднуется 25 декабря, часть немцев уехала домой, в Германию. Выходило, что их положение на фронте несколько стабилизировалось.
Накануне Нового года потеплело. Перед окном кухни, в которое мы изредка выглядывали, образовалась большая лужа. Ее затянуло тонким слоем льда. И вот странную картину увидели мы 30 декабря. Возле этой лужи стоял старый майор Розенер, один из тех, кто защищал Людмилу и Лиду от нападок нахалов. Он был в полной офицерской форме и задумчиво расковыривал носком сапога лед на этой луже. Он стоял долго, не подымая глаз. Казалось, что для него крайне важно разбить этот лед. Мы спросили Бухчика, что должна обозначать эта картина. Он ответил:
– Майор приехал в Гамбург на Рождество. Там он даже улицы, где жил, не нашел. Вся его семья, восемь человек, погибла во время бомбардировки Гамбурга англичанами. Так вот он теперь не в себе.
 Хорошунова: 3 января был получен приказ об эвакуации лагеря. Но к концу дня пришла отмена приказа. Фото: warsite.ru
Хорошунова: 3 января был получен приказ об эвакуации лагеря. Но к концу дня пришла отмена приказа. Фото: warsite.ru
Наступил новый год. 1944-й. Что-то он принесет нам? Долго ли нам еще ждать освобождения? Доживем ли?
2 января появились сведения о том, что нашими освобожден Житомир и что бои идут в районе Новограда-Волынского. 3 января был получен приказ об эвакуации лагеря. Началась срочная упаковка столового инвентаря. Но к концу дня пришла отмена приказа. Снова наши надежды не оправдались. И снова потянулись такие же трудные и напряженные дни. Теперь совсем невозможно было терпеть ожидание и неизвестность. А потом нас постигла большая беда.
27 февраля 1944 г., воскресенье
Спешу записать самое главное. Остальное – неважно. 26 января мы трагически потеряли Бухчика. И это было началом конца. Мы должны были перестать выжидать. Надо было решительно искать пути бегства в Каменец к своим.
Бухчик стоял неподвижно, бессильно опустив руки, предельно бледный и как бы непонимающий, что произошло. Потом повернулся к нам и, как-то виновато улыбаясь, сказал: "Alles kaput!"
Утро началось как обычно. Было очень холодно. Спешили все окончить к завтраку, потому что с вечера моя напарница оставила груду грязной посуды. Потом мы с Бухчиком принесли канистры, и начался обычный день, обычный завтрак, в который и официантки, и Алоиз бегали бегом, подавая и убирая еду и посуду. К концу завтрака выяснилось, что кто-то опоздал, и Бухчик скомандовал Людмиле подать еще прибор, а сам начал спешно готовить яичницу. Как всегда, ловко набросив на руку салфетку, он стремительно вышел из кухни, неся сковородку с шипящей глазуньей.
Он быстро вернулся в кухню и что-то делал у плиты, когда вдруг послышались быстрые шаги, дверь с шумом распахнулась и в кухню вскочил один из офицеров. Он был без фуражки. Лицо его, покрытое угрями, было искажено бешенством. Водянистые выпученные глаза в совершенно бесцветных ресницах и под такими же бровями, казалось, готовы были выскочить из орбит. В руках у него был столовый нож, чистый, который он тыкал Бухчику почти в лицо и при этом быстро, быстро что-то кричал с такой злобой, что брызги из его рта попадали на китель Алоиза.
Бухчик, как обычно, вытянулся перед офицером, и, ничего не отвечая, смотрел на мелькавший перед его глазами нож. Мы смогли разобрать в этом граде незнакомых слов только то, что ему дали грязный нож и что Бухчик ему за это заплатит. Он продолжал бесноваться, а Бухчик все стоял молча по стойке "смирно", вытянув по швам руки. Он только покраснел. Наконец офицер перестал орать. В кухне стало совершенно тихо. Тогда вдруг он, презрительно скривив губы, глядя прямо в лицо Бухчику, прошипел:
– Scheisse!
И тут произошло невообразимое. Бухчик побелел, как полотно, и изо всех сил ударил обидчика кулаком по физиономии. Мгновение, и выпученные глаза альбиноса метнулись перед нами. Он стукнулся головой о стену и с трудом удержался на ногах. От неожиданности или от боли он сначала ничего не мог произнести. Потом он выдохнул из себя только: "Ah, so!", швырнул на пол нож и опрометью выскочил из кухни.
Мы все обмерли. Бухчик стоял неподвижно, на том же месте, бессильно опустив руки, предельно бледный и как бы непонимающий, что произошло. Потом повернулся к нам и, как-то виновато улыбаясь, сказал:
– Alles kaput!
Потом он сел на свою излюбленную табуретку, поставив ноги на перекладину, опустил голову на руки и больше не произнес ни слова.
Мы все понимали, что произошло. Никто ничего не говорил. Не в силах что-либо делать, мы стояли на тех же местах, где нас застала эта непоправимая беда. В томительной тишине прошло, очевидно, с полчаса или больше.
Потом в коридоре раздалось громкое топанье кованых сапог. И два эсесовца в черной форме увели Бухчика. Он так и ушел, не проронив ни слова. Больше мы его не видели.
Мы подняли с пола злополучный нож. Он был чистый, но на нем было круглое темное пятнышко, величиной с маленькую горошину, которое не отчищалось.
Когда Беннер особенно бесился, Людмила говорила ему по-немецки: Научись по-русски хлеба просить. Это тебе скоро пригодится
Более суток справлялись в казино сами, как могли. А потом появился новый начальник – ефрейтор Беннер. Контраст был слишком велик. Все резко изменилось. И словно судьба Бухчика оказала влияние на все развитие военных событий. Все в стремительном темпе понеслось к концу, которого мы так ждали и так боялись, что не сможем дождаться.
Первое знакомство с новым начальством. Он пролаял длинное приветственное слово по-немецки, из которого мы поняли одну десятую часть, и выкинул вперед руку с криком "Хайль Гитлер!"
Среднего роста, худой, он в ефрейторской форме казался карикатурой со страниц окон ТАСС первых дней войны. Или еще словно изображал кота в сапогах из детских сказок. Все на нем висело, болталось, как на чучеле, несмотря на требования к военной выправке. Выглядел он лет на семьдесят со своим совершенно серым лицом с нечистой кожей. Когда он говорил, вернее кричал лающим криком, в углах его рта собиралась пена.
Девчата заговорили между собой по-русски и тут же получили выговор:
– Прошу по-русски не говорить, только по-немецки.
И все теперь делалось под начальственные окрики, в лучшем случае. В худшем – он брызгал в бешенстве слюной и выкрикивал немецкие ругательства. Лакей в гражданской жизни, он ненавидел наших людей всех подряд, и, если бы мог, душил бы, кажется, каждого своими волосатыми корявыми руками. Особенно он ненавидел Людмилу, которая продолжала сохранять свою независимость. Она не спускала ему грубости, и иногда он набрасывался на нее с кулаками, явно желая ударить ее. Лида и я молчали на все. Но положение наше становилось все нестерпимее, и все острее делалась необходимость бежать. Когда Беннер особенно бесился, Людмила говорила ему по-немецки:
– Научись по-русски хлеба просить. Это тебе скоро пригодится.
И вот 12 февраля приказ о свертывании лагеря. Теперь мы надеялись окончательно. Началась упаковка всякого инвентаря, в том числе и столового. Вся посуда была уложена в ящики, и пленные вместе с солдатами вынесли все на машины, которые тут же ушли в направлении нам неизвестном. Мы срочно уложили свои рюкзаки в надежде на то, что это уже приближение какого-то выхода для нас. И вдруг к вечеру 13 февраля снова отбой. Никто никуда не едет, столовая продолжает работать.
 Немецкие военные возле Каменец-Подольского в феврале 1944 года. Фото: warsite.ru
Немецкие военные возле Каменец-Подольского в феврале 1944 года. Фото: warsite.ru
Создалась курьезная ситуация. Кормить господ офицеров нужно, а посуды нет. Срочно принесли алюминиевые солдатские миски и ложки. И двое суток было легко и просто. Перемыть шестьдесят мисок и ложек совсем легко. Тем более, что и кастрюли увезли. Одни канистры с айнтопфом. А на третьи сутки мне снова пришлось испытать волнение, подобное тому, какое вызвали в августе-сентябре прошлого года книги, привезенные из Кенигсберга в нашу библиотеку. Богатство людей, которых уже, очевидно, не было в живых. Чужие раздавленные жизни.
Привезли ящики посуды, чтобы казино могло продолжать работать. Беннер открыл крышки. И когда я из стружки стала вынимать тарелки, бокалы, стаканы, я не поверила своим глазам. Это была изумительной красоты посуда из тончайшего стекла и фаянса, вся с вензелями французского Hotele de Paris. В вонючую, замызганную столовую захолустного оккупированного Проскурова грабители приволокли достояние знаменитого отеля из растоптанного ими Парижа.
Cудьба, в который раз (!), не дала мне погибнуть. Но уже нельзя было больше ждать. Да и жизнь распорядилась за нас
Но награбленной посудой нам почти не пришлось пользоваться. События неслись с неимоверной быстротой, в которой смешалось общее и личное. Началось с того, что Нюсе удалось узнать о намеченной в связи с отступлением грозящей расправе с пленными. Мы сразу передали это товарищу, с которым говорила раньше. А 19 февраля утром, когда я кончала мыть посуду, в коридоре послышался громкий разговор и немецкая брань. Затем в кухню влетел взбешенный Беннер, схватил меня за руку и поволок к концу коридора к уборным. С тех пор, что не стало Бухчика, уборные убирала я. Убрала и в этот день с утра.
В уборных было три отделения: два для общего пользования, а третье – для высшего начальства – генерала, которого мне не приходилось видеть ни разу. Его отделение запиралось на ключ. Один был у него, второй висел в кухне. И вот оказалось, что кто-то из посетителей столовой решил воспользоваться генеральским туалетом, перелез через деревянную перегородку и там расправился, оставил для удовольствия генерала полную порцию своих экскрементов. Генерал орал на Беннера, Беннер все валил на меня.
Теперь, когда стало ясно, о чем был крик в коридоре, я вспомнила, что слышала несколько раз повторенное слово "концлагерь". И Беннер действительно сообщил мне, что за гадость в уборной я отвечу в концлагере. Пока же он ткнул мне в руки ведро и тряпку с приказом срочно убрать. Не зная, не приведут ли они в исполнение свою угрозу, я, войдя в уборную, разорвала в клочки свою записную книжку и вместе с немецким добром спустила в унитаз. Что я могла предпринять? Значит, теперь и мне была суждена доля моей семьи. В состоянии полного отупения я стала ждать.
Однако день прошел, меня не забирали. Опять судьба, в который раз (!), не дала мне погибнуть. Но уже нельзя было больше ждать. Да и жизнь распорядилась за нас.
Галя и Нюся вернулись с работы. И как только стемнело, мы вышли с территории лагеря с надеждой, что больше мы сюда не вернемся
Ночью мы все вскочили от суматохи и криков в доме. В окно вырвалось огромное зарево. Оно было далеко от нас, но можно было разобрать, что горят самолеты на аэродроме. Силуэты еще целых машин были видны на фоне зарева. Через некоторые промежутки высоко в небо взлетал столб дыма и огня. Никто не спал в ту ночь. А утром в казармах не было уже ни одного военнопленного или Hiwi.
Мне пришлось работать и 20-го числа, потому что моя напарница не явилась на работу. Когда же я после 12 часов ночи возвращалась в общежитие, из тени в углу дома отделилась фигура мужчины. Я вздрогнула от неожиданности, но тут же узнала товарища, который, как мы надеялись, поможет нам найти связи с нашими.
– Не пугайтесь, – сказал он. – Это я, Иван. Вам тоже нужно уходить.
И он назвал мне адрес и пароль. Он теперь был не в рваной шинели, а в ватнике и ушанке. Не успела даже поблагодарить его. Он исчез так же быстро и тихо. И в эту ночь мы не спали. День 21 февраля был для нас днем величайшего волнения. Мы боялись того, что вот сейчас, когда приближается час, которого мы столько ждали, что-нибудь случится непоправимое. Шаги на лестнице, каждый стук в соседние или наши двери казался роковым.
Но вот уже Галя и Нюся вернулись с работы. И как только стемнело, мы вышли с территории лагеря с надеждой, что больше мы сюда не вернемся.
Мы долго шли по темному Проскурову с опаской, спрашивая редких прохожих о нужной нам улице. Пришли мы уже после шперштунде. Потом мы долго негромко стучали, пока нас впустили в калитку, а потом в двери небольшого домика. Света сперва не зажигали. Потом, когда стало ясно, что мы это мы, нам предложили снять рюкзаки и раздеться. Мы поужинали вместе с хозяевами, соединив их и наши продукты. В семье было трое детей, Иван и его жена. Потом нам постелили на полу и предупредили, что задолго до рассвета нас должны погрузить в машину, идущую с каким-то грузом в Каменец.
Понятно, что и в эту ночь нам не пришлось спать. Мы сидели на бочках не то с мазутом, не то со смолой. Места для ног не было, их сводило судорогой. Но мы ничего не замечали. Сквозь щель в брезенте, которым была крыта машина, мы видели, что делалось на дороге за нами. Мороз ослабел, и дорога представляла из себя месиво из грязи и снега. Вплотную одна за другой шли машины с немецкими солдатами, орудиями, скотом, с какими-то грузами. В сторону Проскурова двигался один поток. От Проскурова лавина в несколько рядов. А по бокам от дороги в обе стороны шел "обоз Гитлера".
 Окрестности Каменец-Подольского во время отступления немцев. Фото: reibert.info
Окрестности Каменец-Подольского во время отступления немцев. Фото: reibert.info
Как и возле Киева, это были вереницы замученных горожан с санками и детскими колясками, с возиками самых разных конструкций. Разница между движением на дороге и по сторонам ее была лишь в том, что машины непрерывно останавливались из-за постоянных пробок, а "обоз Гитлера" двигался безостановочно медленно и уныло. Несколько раз над дорогой появлялись советские самолеты. Тогда начиналась паника и беспорядочная стрельба. Наши самолеты пикировали в места скопления военных машин. Люди кричали, соскакивали с машин и бросались в сторону от дороги. А мы радовались. И забывая о том, что ноги отекли, что мы окостенели от холода, что самолеты могут стрелять и по нас, мы чувствовали только одно: впереди освобождение, а над нами наши советские ястребы.
В Каменец мы добрались глубокой ночью. На Мукше у Юли стариков не оказалось. Их приютила добрая знакомая Елизавета Сидоровна Кулаева в своем маленьком домике на Лагерной улице. Туда мы добрались утром. И Елизавета Сидоровна встретила нас ласковыми возгласами: "Ой, сыну, ой, сыну! Все тут у нас будете". Вот здесь мы и остались. Здесь я пишу эти строки.
3 марта 1944 года, пятница
8 марта 1944 года, среда
Как-то не подумали мы о том, что сегодня 8 Марта. А я не напомнила, потому что все мои мысли в марте прошлого года. Многое изменилось с тех страшных мартовских дней. Киев свободен, но мы далеко от него. И все еще фронт отделяет нас от советской земли. И самое нестерпимое для меня – полное отсутствие сведений о моих. И так трудно сохранять надежду на то, что они живы! Где они, что с ними? Страшные картины их гибели не уходят. По-прежнему, как только закрываю глаза, чтобы уснуть, видения того, как их зарывают в Бабьем Яру, заставляют меня кричать. И Нюся вынуждена будить меня.
Многих, как нас, кормят каменчане, у кого есть еще немного продуктов. Главное — пшено и картошка. Хлеб редко удается достать. Магазинов нет
Мы живем в томительном ожидании. Все говорит о том, что приближается наше освобождение. Каменец живет так, как никогда не жил. Так говорят исконные каменчане. В нем собралась сейчас масса народа. Киевляне, харьковчане, полтавчане. Жители других городов Украины. Киевляне-фольксдойче раньше уехали отсюда. Мы не застали уже ни Геппенера, ни Луизы Карловны, ни Дарьян, которые встретили меня в октябре. Но здесь есть врачи, артисты и многие другие, которые нашли здесь пристанище. Из знакомых фамилий – гинеколог Попова, певец Борис Гмыря (он сюда попал из Полтавы), композитор Герман Жуковский.
Вообще Каменец сейчас настоящий узловой город, хотя железной дороги от него дальше нет. На улицах сейчас очень много народа. Никто из приезжих не работает, насколько я знаю. Живут все главным образом тем, что можно купить на базаре. Многих, как нас, кормят каменчане, у кого есть еще немного продуктов. Главное – пшено и картошка. Хлеб редко удается достать. Магазинов нет. Несколько частных лавочек, каких – не знаю.
Мы не часто бываем в городе. Боимся за Андрея Семеновича, которого многие в Каменце знают как директора Зиньковецкой школы, человека очень советских взглядов. За Нюсю и Галю боимся, не зная, нет ли уж в Каменце тех, кто знал их по Проскурову. Повсюду хожу по городу главным образом я. Никому неизвестная беженка.
Общее настроение – ожидание и неизвестность. Киевляне, которые уехали из Киева после 15 октября, рассказывают всякие страшные вещи. Они говорят, что видели немцев, обливающих горючим дома и поджигающих их. И все боятся такой же судьбы для Каменца.
Старый город лежит в руинах еще с самых первых дней войны. Зачем немцы бомбили такую старину?
Живем слухами. Газеты и радио пустые. В народе говорят о том, что советские войска движутся вперед, освобождая Украину. Когда-то они дойдут до нас? Упорно говорят, что уже освобождены Житомир, Новоград-Волынский, Бердичев. Вчера рассказывали об упорных боях за станцию Шепетовку. Вчера мы все-таки пошли с Нюсей на Зиньковцы. Очень хотелось знать и Андрею Семеновичу, и нам, что же со школой и домом, где старики жили много лет.
Дорога туда идет из парка по крутой лестнице вниз к Смотричу. Потом по кладке нужно перейти через реку и подняться по крутой горе тропинкой в самые Зиньковцы. Налево остается Старый город, лежащий в руинах, и жалким железным калекой лежит взорванный новый мост.
 Каменец-Подольский. Руины Старого города. 1944 год. Фото: reibert.info
Каменец-Подольский. Руины Старого города. 1944 год. Фото: reibert.info
Мы долго, с трудом переходили кладку. Она обледенела. Смотрич лежал белой лентой в серых бесснежных берегах. Потом, тоже с трудом, поднимались тропинкой вверх по горе. Безлюдно. Пасмурно. Уныло.
На территории школы полное запустение, хотя здание школы используется, по-видимому, как казарма. Огорожа усадьбы сломана во многих местах. Сад стоит оголенный. Правда, еще не совсем весна, а зима отступила и оставила после себя распутицу. Земля в саду усыпана соломой, лошадиным навозом, обрывками грязной одежды и бумаг. И школа, и квартира директора заняты немцами. Строения стоят ободранные, грязные. Многие окна забиты картоном и фанерой. И только тоненькая тополька, как ласково по-украински в женском роде называют тополь, посаженная Галей еще ребенком, стоит стройная и невредимая перед входом в бывшую квартиру Нюсиных родителей.
Мы побродили по усадьбе. И ушли молча, теперь уже в сторону Подзамче. По дороге мне Нюся показала тоненький родничок, который вытекает из горы. Его называют "дзюркалом". И я часто слышала от Нюси рассказы о том, как подолгу надо терпеливо ждать, чтобы эта тоненькая струйка кристально чистой воды, вернее капельница, наполнила ведро. Ведь на Зиньковицах нет воды, кроме этой и еще колодца на той крутой тропинке, по которой мы шли из города.
Я впервые увидела Турецкую крепость с каменными ядрами, вросшими в ее замшелые стены. Это – достопримечательность Каменца. Нюся показала мне башню Кармелюка. Потом мы пошли по Турецкому мосту в Старый город. Он лежит в руинах еще с самых первых дней войны. Зачем немцы бомбили такую старину? Ведь они варварски разрушили произведения искусства, среди которых не было никаких объектов военного или промышленного значения. Среди этого запустения гордо возвышается мечеть Кафедрального собора с мадонной в полумесяце.
Мы благополучно вернулись домой. Никто нас не опознал. И рассказали обо всем Андрею Семеновичу и Агафье Хрисановне.
26 марта 1944 года, воскресенье
Каменец освобожден! Теперь и мы снова стали свободными советскими людьми. Но это все еще не доходит до сознания. И есть ли слова, которыми можно передать то, что мы чувствуем? У меня нет таких слов. И я даже не делаю попытки их найти. Постараюсь только записать то, что было, если мне это удастся.
В последние дни напряжение в городе перешло всякие границы. Успеют ли наши войти в город и предотвратить его сожжение и изгнание людей? Только об этом думали и говорили все. А бой возле Каменца, тяжелый бой, шел уже все последние дни. Непрерывная канонада то приближалась, то отдалялась. И было впечатление, что бой идет вокруг всего Каменца. Это было очень похоже на состояние, которое было в августе-сентябре 1941 года в Киеве. Только тогда мы были в отчаянии, что наши могут оставить Киев. А сейчас все нервы были напряжены от ожидания и надежды, что приближается освобождение. И только одно страшило всех: успеют или не успеют предотвратить гибель города и людей. И еще мучило сознание, что вот мы сидим, ничего не делаем для фронта, а там бьются и умирают за нас наши воины. И сколько еще жизней нужно отдать за наше освобождение!
Все эти дни из Каменца панически бежали те, кто боялся прихода большевиков. Уезжали, кто как мог: машинами, подводами. Уезжали, по слухам, в сторону Днестра, Жванца, Хотина, потому что Каменец был уже окружен советскими войсками. Утром вчера принесли известие, пока не проверенное, что освобожден Проскуров. Так что по поведению бегущих и по слухам, которые все вырастали в городе, путь из Каменца мог быть только в сторону Днестра. Еще говорили, что уже несколько дней никакие поезда от города не отходили.
Это было очень похоже на происходившее в Киеве в сентябре 41-го. Только все было в обратной проекции. Тогда уходили наши, а сейчас наши вот здесь, близко
Утро вчера, 25 марта, наступило серое, пасмурное, но было тепло и совсем сухо. Весь март стояла теплая, почти весенняя погода.
Быть может, в центре города было более людно, но на Лагерной, где мы живем, на улице никого не было. Соседи и мы выходили только во дворы, потому что все ближе была орудийная стрельба. И временами выстрелы тяжелых орудий сливались в сплошной гул, а потом затихали. Никто не знал, что происходит. Иногда по улице пробегали немецкие мужчины, прижимаясь к заборам, потому что часам к пяти вечера можно было услышать свист пролетавших пуль.
Потом часов после пяти раздалось подряд три взрыва со стороны центра города. И все затихло. Было такое чувство, что мы это уже пережили когда-то. Да, это было очень похоже на происходившее в Киеве в сентябре 41-го. Только все было в обратной проекции. Тогда уходили наши, а сейчас наши вот здесь, близко. И томительное ожидание было смешано с величайшим волнением, от которого все дрожало внутри.
 Город Проскуров. Весна 1944 года. Фото: reibert.info
Город Проскуров. Весна 1944 года. Фото: reibert.info
Никто не разговаривал. Все сидели вместе. И все напряженно слушали и ждали. Начало смеркаться. Вдруг кто-то громко застучал в окно, и мужской голос сказал:
– Немцы отступают через Русские фольварки.
И вестовой, принесший такое известие, побежал дальше. Вот тогда я пошла. Несмотря на уговоры и беспокойство окружающих. Я вышла из дома одна. Вышла потому, что это было нестерпимое, неудержимое желание – увидеть своими глазами отступление врагов. Ведь тогда, 19 сентября сорок первого, я своими глазами видела, как входили в Киев эти нелюди, а запечатанные в броню машины, именуемые немецким вермахтом, принесли нам столько неизбывного горя. И ведь страстным желанием все эти годы было, если доживем, увидеть, как побегут под натиском советских армий эти сине-зеленые мундиры. Побегут с нашей земли. И снова, снова с чувством вины за то, что я живу, вины перед всеми теми, кто погиб в бою или в застенках гестапо, с неотступным видением кровавого Бабьего Яра, я шла туда, где должна была увидеть отступающих немцев.
Я видела освещенные пламенем горящих машин перекошенные животным страхом лица "светловолосых рыцарей". Они метались возле мертвых машин и кричали
Кроме меня, на улицах, где я шла, не было ни одного человека. Никто не зажигал огня. Все дома были тихие и темные. Было так тихо, что очень отчетливо слышался свист пуль. Некоторые свистели почти над головой. Но не было во мне даже незначительной крупицы страха. И природа словно замерла.
Когда я дошла до парка, уже значительно стемнело, и слева со стороны Петроградской улицы был совсем близко виден пожар какого-то большого дома. Зарево от него я видела еще сразу, когда вышла из дому. Как раз когда я подошла ближе, очевидно, рухнула крыша, и огромный столб огня и дыма поднялся к небу.
Из парка было видно, что что-то горит и справа на улицах Петроградской и Московской. Но вот я вышла из парка и остановилась, пораженная необычайным зрелищем: обе улицы были сплошь забиты машинами, которые горели. Машины легковые и грузовые. Немецкие машины. Возле них не было ни одного человека. Едкий дым и запахи горелой резины, бензина, почему-то горелой картошки и капусты наполняли безжизненные улицы. С обеих сторон дома с темными окнами. И тишина, в которой то и дело раздавались небольшие взрывы, и столбы искр поднимались вверх. Это, очевидно, огонь добирался до целых еще машин. Вряд ли когда-нибудь можно будет забыть эту картину. Сзади темные улицы, совсем темный парк. Абсолютное отсутствие людей и бесчисленное множество горящих неподвижных машин, устремлявшихся, по-видимому, вон из города в сторону Могилевской или Пушкинской улиц.
 Отступление немцев. Весна 1944 года. Фото: reibert.info
Отступление немцев. Весна 1944 года. Фото: reibert.info
А дальше угол улицы Шевченко. И вот оно то, из-за чего шла. Опять сгрудившиеся машины, среди них горящие только некоторые. И немцы, много немцев, солдат и офицеров, с обезумевшими глазами. Ясно было, что они никуда не могут двинуться. Машины, сбитые вплотную одна к другой, на мостовой и на тротуарах. И абсолютно неподвижные. Этот "кортеж" заканчивался у здания бывшей Мариинской гимназии. И дальше была тьма и тишина. Я стояла в углублении углового дома на углу Александровской улицы и видела все настолько отчетливо, словно присутствую на спектакле, который играется перед самыми глазами.
Да, я видела освещенные пламенем горящих машин перекошенные животным страхом лица "светловолосых рыцарей". Они метались возле мертвых машин и кричали. Они все кричали, размахивали руками. О, это было достойное зрелище панического бегства и предельного страха. Можно было возвращаться домой. Дом на Петроградской улице уже догорал. Было совсем темно и так же пустынно, когда вернулась домой. Все волновались, а я нет. Жгучая радость переполняла меня. И нет у меня слов, чтобы передать ее силу.
Мы с Галей… Кому расскажешь, не поверят: мы смеялись. Чему? Не знаю, но это был неудержимый смех, как будто бы беспричинный. И мы никак не могли остановиться
Время шло. А часов около десяти снова постучали в окно. И снова добрый вестовой сказал:
– Спускайтесь в погреб. На улице танки.
Мы все спустились в погреб, захватив с собой коптилку. Действительно, вскоре по улице прогромыхал танк. И, судя по звуку, остановился дальше от нашего дома тут же на Лагерной улице.
Еще через некоторое время мы услышали звук орудийного выстрела с той стороны, где он стоял. И довольно скоро ответный выстрел откуда-то слева от нас.
Агафья Хрисанфовна и Елизавета Сидоровна плакали. Мужчины сидели молча. Нюся сидела на лестнице под самой лядой и слушала. А мы с Галей… Кому расскажешь, не поверят: мы смеялись. Чему? Не знаю, но это был неудержимый смех, как будто бы беспричинный. И мы никак не могли остановиться. А Нюся злилась. Она очень сердилась на нас за то, что мы мешаем ей слушать, какой, чей танк стреляет. Как будто бы можно было определить по звуку "национальность" танка.
 Подбитый в районе Хотина немецкий танк. Весна 1944 года. Фото: reibert.info
Подбитый в районе Хотина немецкий танк. Весна 1944 года. Фото: reibert.info
Потом стрелять перестали. Танк снова прогрохотал мимо нашего дома. Все затихло. И после двух часов ночи мы выбрались из погреба.
Конечно, было не до сна в эту ночь. И только стало светать, мы с Нюсей вышли во двор. Мимо быстрым шагом шли двое мужчин в темных куртках, с красными повязками на рукавах и с автоматами.
– Что в городе? – спросили мы.
– В городе наши, – ответили они.
Так мы узнали, что Каменец освобожден. Ознаменовали мы наше освобождение тем, что в числе многих жильцов соседних домов отправились за трофеями в оставленный немецкий продуктовый склад. Он помещался в кирпичном здании на Резервуарной наискосок от дома Кулаевых. Конечно, мы были не первые, кто позарился на оставленное немцами. Но нам досталось: большой бумажный мешок сушеного лука, деревянный бочонок килограмм в двенадцать какого-то белого жира, и, самое примечательное, – колбасные заготовки. Впервые в жизни мы увидели колбасный фарш, возможно свиной, начиненный в оболочку из какого-то искусственного материала вместо натуральных кишок. Но это было просто чудо – разжиться колбасой. И Елизавета Сидоровна тут же взялась за приготовление трофейной еды.
А мы с дедушкой Андреем Семеновичем пошли в город. Снова тот же путь, которым шла вчера. Но теперь всюду было много веселых, радующихся людей. На улицах, где уже догорели немецкие машины, царило оживление.
Народ разбирал содержимое уцелевших машин. Все стороны соседних домов, тротуары и мостовая были заляпаны повидлом, тушеной капустой и еще всякой снедью. Оказывается, среди машин были и кухни, и вот, когда все это горело, эти "блюда" от взорвавшихся радиаторов "доваривались", взрывались и разбрызгивались вокруг. Дедушка остался у машин, а я снова вышла на Шевченковскую улицу. Там группами стояли люди и сообщали друг другу грустную новость. Один из командиров дивизии, освобождавшей Каменец, рассчитывая, что он уже в советском городе, собирался бриться в угловой комнате дома на Шевченковской улице. И вдруг непонятно откуда взявшаяся пуля убила его на месте.
По Лагерной вели пленных. Как быстро соскочил с них весь их лоск! Грязные, заросшие, жалкие, они брели, не поднимая глаз, не глядя на нас
Узнав, что комендатура расположилась в помещении бывшей Мариинской гимназии, пошла домой. По дороге какая-то женщина дала мне мешочек белой муки. А дедушка вернулся домой с такими трофеями: он принес подкладку, очевидно, от офицерской шинели из очень хорошего серого сукна, и два хромовых сапога, к сожалению только, оба на одну ногу.
А дальше события понеслись с еще большей быстротой. Прежде всего, мы все увидели немцев в новом обличии: по Лагерной вели пленных. Как быстро соскочил с них весь их лоск! Грязные, заросшие, жалкие, они брели, не поднимая глаз, не глядя на нас. На солдатах были намотаны на головы платки. Офицеры также значительно потускнели. А самое для нас было удивительное, что конвоировали их молодые хлопчики в кожушках, в ушанках, с автоматами в руках, такие все крепкие, коренастые, больше всего невысокого роста. И такие все молоденькие, словно ребята со школьной скамьи. Опять какой поразительный контраст: человек двести, как нам казалось, пленных вели человек двенадцать-шестнадцать наших ребят. Мы еще не знали, какие именно войска освобождали Каменец.
Была середина дня. В комнате, выходившей окнами на Резервуарную и на Лагерную, стоит старенькое пианино. И вот Галя начала играть (ведь у всех было приподнятое, возбужденное состояние). Она играла одну за другой любимые советские песни. Когда же она заиграла "Ведь не даром много песен о любви поется", ее игру прервал резкий стук в окно. И двое военных, наших, советских, попросили разрешения войти.
– Мы пришли на песню, – сказали они.
Как все мы были им рады! Но грустные они были. Тот, что постарше и покрупнее, Василий, оказался начальником разведгруппы. Помоложе, тоненький Саша – боец из этой группы. Они рассказали: им полагалось идти в разведку. Никто не знал, что большая группировка немцев еще находилась в районе базара. Было их пятеро. Ничего не подозревая, считали, что идут по освобожденному городу. И вдруг очутились почти в самой гуще немцев. Когда увидели опасность, обнялись все пятеро и, подумать только, запели именно эту песню, которую только что играла Галя: "Ведь не даром столько песен о любви поется".
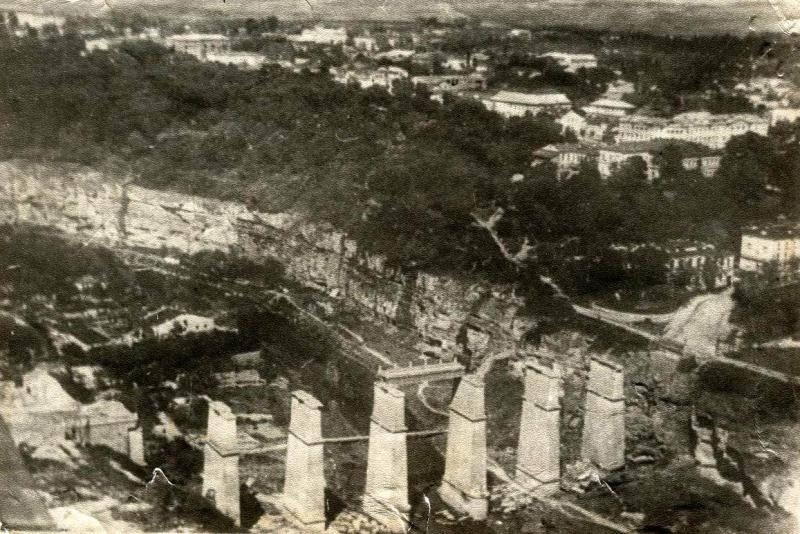 Каменец-Подольский весной 1944 года. Фото: reibert.info
Каменец-Подольский весной 1944 года. Фото: reibert.info
Вот расскажи кому-нибудь, не поверят, что может быть такое совпадение.
Очень грустно и страшно. Троих их товарищей убили на месте. А им двоим удалось уйти. Такое было тяжелое первое знакомство с нашими освободителями. Василий попросил чего-нибудь выпить. Шинель у Саши была разорвана на боку. Их усадили, чем могли угостили. Галя стала зашивать Сашину шинель. А мы с Нюсей пошли в комендатуру.
Немцы вывезли все оборудование и весь инвентарь больницы. Совершенно пустые палаты, без единой кровати и тем более матрасов, подушек, одеял, белья
В комендатуре толпилось много народу, военного и штатского. Были молодые и пожилые мужчины. Когда же мы подошли к столу, то сидящий за ним капитан, не знаю, комендант ли города или нет, сказал:
– А вот и первые женщины пришли.
Нас спросили, кто мы по специальности. Когда узнали, что я художница, сразу же хотели поручить мне писать лозунги на стенах домов. Но нас это не устраивало. Еще в самом начале оккупации мы дали слово, если только доживем до освобождения, идти работать в госпиталь, на самые трудные работы. Только так я могу в своем состоянии. Ну а Нюся ведь еще в июле 1941 года работала в госпитале и никогда не забывала об обожженных в танках, которых все привозили и привозили в первые дни войны. Поэтому мы сразу сказали, что просим направить нас в госпиталь.
– Пожалуйста, – сказали нам. – Там очень нужны люди.
Идите в помещение городской больницы, в ней организуется госпиталь.
И мы пошли. Снова мимо сгоревших машин.
В будущем госпитале пока еще полная растерянность. Дело в том, что немцы вывезли все оборудование и весь инвентарь больницы. Совершенно пустые палаты, без единой кровати и тем более матрасов, подушек, одеял, белья. Полы в палатах сравнительно чистые, крашенные и почему-то все засыпанные соломой. Но совершенно пусто во всех помещениях.
Мы пришли, когда там спешно писались во многих экземплярах обращения к населению с просьбой помочь госпиталю кроватями, одеялами и необходимым бельем. Нас зачислили санитарками. Завтра к восьми утра мы должны выйти на работу.
Сейчас, когда я дописываю эти строки, вся наша добровольная коммуна разбрелась по своим местам. Не знаю, кто заснет, а кто нет. Прошел первый день нашего освобождения. А сердце никак не успокоится. Оно стучит все время не только в груди, но и в висках, и в горле.








