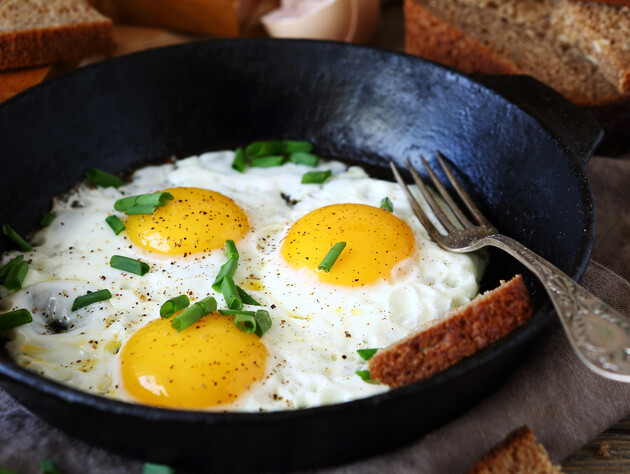– Дима, добрый день.
– Здрасьте, Дима.
– Я очень рад вас видеть. Живого.
– Взаимно. Взаимно. Все свои.
– Вы окончили школу с золотой медалью и поступили на факультет журналистики Московского государственного университета...
– Слушайте, я вам столько раз это все рассказывал...
– Вопрос в другом: почему вы с 3-го курса в армию пошли?
– А почему, собственно, я не должен был это делать? Тогда брали. Это же был Советский Союз.
– Где вы служили?
– Под Петербургом.
– Да? А в каком месте?
– Славянка. Есть такая станция.
– Ага. А я под Лугой служил.
– Ну, мы с вами почти соседи.
 Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
– В каких войсках вы служили?
– Это был склад – такая базовая часть. Поэтому я не очень знаю, что я грузил. Подозреваю, что какие-нибудь ракетные детали.
– Тяжело вам было в армии?
– Да не очень. Это же была перестройка: 87–89-й. Увольнения были. Вообще, гуманная была часть.
– Скажите, пожалуйста, с позиции вас сегодняшнего, служба в армии – это потерянное время? Или что-то вы там приобрели?
– Ну как вам сказать... Приобрел я там довольно много. Это был все-таки Петербург. И я регулярно ходил в гости ко всем героям своего диплома: к Нонне Слепаковой, к Александру Кушнеру, к Валерию Попову, к Лидии Гинзбург. Я думаю, я их измучил довольно сильно, но они все старались меня кормить, голодного такого матроса. И в общем, это было для меня отнюдь не потерянное время. У Житинского я довольно часто бывал. А это для меня человек чрезвычайно важный. И, собственно, во время ночных дежурств по КПП, чтобы не спать, я этот диплом в значительной степени и написал. То есть когда я его потом перепечатывал, большая часть его была сочинена как раз в этой воинской части: №71113, ныне упраздненной. На ее месте какой-то то ли склад, то ли база. Я был давно уже. И потом, многие мои друзья, которые там приобрелись, – они остались со мной на долгое время. Да и Питер, понимаете, я успел изучить очень хорошо, бегая от патрулей. Это совсем не было потерянным временем. Ну, так получилось. Наверное, если бы это была какая-нибудь глубокая провинция и какая-нибудь страшная часть – наверное, это было бы страшное время – может быть, потерянное. Но мне повезло.
У меня есть ностальгия к Советскому Союзу. Потому что сейчас хуже
– Слушайте, школа хорошая. Во-первых, родители хорошие, школа, потом армия не страшная, университет, в конце концов. Скажите, пожалуйста – вот вы, советский мальчик благополучный, из благополучной семьи – ностальгия по Советскому Союзу у вас есть какая-то или нет совсем?
– Во-первых, Дима, я никогда не был благополучным мальчиком. Понимаете, благополучие – это же внутреннее состояние. Вот этого внутреннего состояния благополучия у меня не было никогда. Я человек скорее тревожный. Семья у меня была, прямо скажем, небогатая, и, в общем, я к советской элите никогда не принадлежал. Но у меня есть ностальгия к Советскому Союзу. Потому что сейчас хуже. Потому что в советское время приехать в Киев мне было гораздо проще, а сейчас мне это сложно. Вот сейчас я собираюсь в Киеве выступать, а до сих пор не знаю, там приглашение на меня получено или нет, СБУ мне разрешит въезд или нет, какие мне документы надо будет предъявить, какое количество ПЦР... Вообще, ностальгия по временам, когда приехать в Киев было проще и когда Украина не воспринималась как враг, у меня очень сильна. Да и вообще, сейчас хуже во многих отношениях. Интеллектуально поздний СССР был страной вполне привлекательной. Я не испытываю ностальгии по советской имперской мощи, но по советской просветительской, культурной и интеллектуальной мощи – да, испытываю. И потом, интернационализм СССР хотя и был прокламирован, но, конечно, не подкреплялся в быту, но, по крайней мере, быть националистом было неприлично. Понимаете? Как-то антисемитизм был, но его стеснялись. А сейчас не стесняются.
– А у вас, в России, есть антисемитизм?
– А у вас, в Украине, нет?
– У нас 73 процента жителей Украины проголосовало за еврея в качестве президента. При этом когда он стал президентом, премьер-министром был еврей Гройсман, а лидером оппозиции – еврей Рабинович. Все совсем не так грустно, как кажется.
– Понимаете, это, безусловно, не грустно, но в Советском Союзе, еще раз говорю, принято было национального вопроса стыдиться, поднимать его было стыдно: жена еврейка, сам еврей... Или, допустим, разговоры беспрерывные о том, что в армии господствует дедовщина по национальному признаку. Это было неприлично, этого стеснялись. Сегодня не стесняются. И дикие, абсолютно пещерные проявления, вроде кровавого навета, оказались необычайно живучими. Это меня, конечно, печалит. Понимаете, как сказать... Антисемитизма на государственном уровне, может быть, и нет. Антисемиты чувствуют себя чрезвычайно вольготно тем не менее.
Я вполне комфортно чувствую себя в качестве школьного учителя. В качестве писателя меня в любой момент могут запретить. В качестве учителя – вряд ли
– Дима, вы писатель, вы замечательный поэт, публицист, литературный критик, журналист, телеведущий, в конце концов, преподаватель литературы...
– "Почему вы живы?"
– Нет, этого мы коснемся позже. Скажите, пожалуйста: кем вы себя ощущаете больше? Вот кто вы больше?
– Престижнее называться поэтом. Но как-то я и вполне комфортно чувствую себя в качестве школьного учителя. Потому что я очень мало завишу от издательской конъюнктуры. Зарабатываю я не книгами, а педагогикой, лекциями. И это, как говорил Пастернак, заработок чистый и верный. В качестве писателя меня в любой момент могут запретить. В качестве учителя – вряд ли. Учителя в большем дефиците, чем писатели.
– Вы заговорили о Пастернаке, и я сейчас вспомнил, как мы ехали с Евгением Александровичем Евтушенко куда-то, сидели на заднем сиденье и заговорили о вас. И он говорит: "Я прочитал только что книгу Димы Быкова о Пастернаке. Ну, это на грани гениальности".
– Он был добрый вообще очень.
– Очень добрый. Он любил помогать. И если он видел талант, он светился от счастья, что он обнаружил этот талант и он есть.
– Он был добрый, да. Это еще Окуджава сказал, что Евтушенко можно любую безвкусицу и любые его сбои простить за то, что он добрый человек, любящий решать любые проблемы. Это я тоже помню очень хорошо.
– Это абсолютная правда. Дима, вы биограф Пастернака, Окуджавы, Маяковского, Горького, в конце концов. Кто из этих людей самый-самый писатель?
– Как человек – безусловно, Пастернак. А как писатель... Понимаете, тут невозможно расставить никакие приоритеты. Они чрезвычайно разные. Окуджава был безусловным гением, но он гений такой – как бы сказать? – себя не сознающий, не рефлексирующий. Для него самого природа собственного таланта была абсолютной тайной. Маяковский – безусловно, гениальный поэт, но очень трагическая личность, которая нуждалась, если угодно, в постоянной компенсации своих психологических проблем. Поэтому писал он не столько потому, что так хотел, сколько потому, что так лечился, так спасался. И когда эта творческая способность дала окончательный сбой, он погиб. Так что я их, в общем, никак ранжиром не расставляю. Я должен сказать, что время, с ними проведенное, было необычайно утешительным. Они и так очень сильно мне помогли.
 Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook
Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook
– Горький – гений или нет?
– Ну, как новеллист – безусловно. Он очень сильный рассказчик. Он вызывает у меня большие сомнения как романист. Потому что романы его – это такие связки дров, а не естественно растущее дерево. Но человек он был чрезвычайно одаренный, мыслитель довольно своеобразный, ницшеанского, склада. Нет, ну что же, я в Горького камня не кину, конечно. Это очень важный такой русский, ницшеанец, очень помогающий человеку в преодолении его слабостей и пороков.
– Я вам признаюсь в том, в чем признаваться, наверное, не модно. Я периодически слушаю Окуджаву. А вы Окуджаву слушаете?
– Конечно. Мне, слава богу, Миша Дайчман – великий израильский собиратель – прислал свой пятидисковый сборник, где все записи Окуджавы, за исключением, кажется, двух. Потому что они уж совсем не реставрируются. И я Окуджаву, и МХАТовские записи, и записи разных лет слушаю довольно регулярно, чтобы не сказать ежедневно.
– Вам удалось с ним встретиться при жизни?
– Я был хорошо с ним знаком. Если с ним можно было быть в принципе хорошо знакомым... Он был человек крайне закрытый, и закрытый, я думаю, даже для себя самого. Но я с ним общался, четыре раза его интервьюировал, и это было всегда очень интересно. Не говоря уже о том, что просто, понимаете, это довольно такое возвышающее чувство: что рядом с тобой сидит гений. Это позволяет чувствовать некоторое смирение. Окуджава был гений в самом чистом виде. Гений, ничего для этого не делавший. Не результат самовоспитания, а результат озарения.
– Вы как-то сказали, что русская классика – это аптека на все случаи жизни.
– Практически так.
– Скажите, пожалуйста, кто из русских классиков сейчас особенно актуален?
– Я думаю, Владимов, Некрасов, Домбровский...
– Некрасов Виктор или Николай?
– Виктор, конечно. Хотя Николай Алексеевич – мой любимец давний. Вот. И если брать, кстати, упомянутого Окуджаву, то "Свидание с Бонапартом" – это выдающееся историософское произведение, в котором сказаны о русской истории очень многие жестокие и важные вещи, но они так тщательно зашифрованы, что это, как говорил другой мой любимец, Михаил Львовский: "и в такой далекой дали я зарыл бессмертный труд, что пока не отыскали и боюсь, что не найдут". Я боюсь, что расшифровывать эту книгу имело смысл в 70-е или 80-е годы, когда она была написана. Сегодня понять, что Окуджава имел в виду, гораздо труднее. Но, безусловно, "Свидание с Бонапартом" – это великая книга о русской истории. Как там сказано, об "имперском граните, который охлаждает наши горячие лбы". И, конечно, из вечно актуальных для меня писателей – это Чехов после "Сахалина". Особенно "Остров Сахалин" сам по себе – один из великих русских документальных романов.
– А Тургенева, например, с длинными описаниями природы или даже Льва Николаевича Толстого, "Войну и мир", "Анну Каренину" читать еще будут? Или все, конец?
– Да нет, Толстого будут читать всегда. Потому что он необычайно полемичен, и его концепция войны 12-го года остается довольно экстравагантной, и с ним продолжают спорить, как с живым. Толстому ничего не сделается. Ровно так же ничего не сделается и Тургеневу. Потому что, понимаете, это с Толстого, ревнивого Толстого, пошло мнение: "В одном он мастер такой, что руки опускаются после него писать: это природа". Как раз пейзажи тургеневские – далеко не самая сильная его сторона. Тургенев создал, вообще говоря, с нуля тип европейского романа – романа с довольно сложными подтекстами, с неочевидной фабулой, со сложным весьма, полифоническим мышлением. Никогда нельзя сказать, на чьей он стороне. Мопассан, Гонкуры, отчасти Флобер – все научились у него. Потому что до него французский роман был романом-фельетоном, неряшливым и пухлым, как у Эжена Сю. Этот русский барин задал некий эстетический канон. И конечно, роман Тургенева всегда актуален. И конечно, в силу его вечной политической актуальности такие книги, как "Дым", читаются, словно вчера написанные. И я очень хорошо понимаю, почему Достоевский предлагал именно эту книгу публично сжечь. Когда сейчас перечитываешь "Дым", то поражаешься его глубине. И он, в общем, научился уже тогда свои самые заветные мысли отдавать не самым приятным героям. То, что там говорит Созонт Потугин, – это можно просто сейчас брать, печатать и, соответственно, получать цензурные санкции. Так что Тургеневу ничего не угрожает. Он у нас, я думаю, самый крупный мастер идеологического романа.
– Видите, а Николай Платонович Огарев написал эпиграмму когда-то: "Я прочел ваш вялый "Дым" и скажу вам не в обиду: я скучал за чтеньем сим и пропел вам панихиду".
– Николай Платонович был посредственный поэт. Очень хороший человек. Но помним мы его, к сожалению, благодаря его дружбе с Герценом: дружбе не безгрешной, дружбе, омраченной таким, я бы сказал, супружеским... Даже не треугольником, а квадратом. Но мнение Николая Платоновича о Тургеневе – это все равно мнение посредственного писателя о великом. Ничего не поделаешь.
 Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook
Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook
– Дима, кто, на ваш взгляд, самый великий нобелевский лауреат по литературе?
– Знаете, самый великий нобелевский лауреат по литературе – это Джойс, которому не дали Нобеля. Для меня, вообще говоря, Джойс – все-таки самый влиятельный писатель ХХ столетия. А если брать людей награжденных... Я помню, как я Лимонова спросил: "Хотите ли вы получить Нобеля?" – он сказал: "Да ну... Если бы это давали хорошим писателям... А то получали всякие жопочники вроде Сюлли-Прюдома". Мне очень понравилось это определение: "жопочник" – применительно к такому идеалисту и романтику Сюлли-Прюдому. Но из тех, кто получал, мне Киплинг наиболее симпатичен. Потому что он универсален. Понимаете? Он и в прозе, и в поэзии, и в публицистике, и в переложении фольклора достиг одинаково выдающихся высот. Ну и, конечно, мне страшно близок Пастернак. Потому что люблю я или не люблю какие-то его сочинения, но по-человечески он, безусловно, лучше всех в ХХ веке.
– А Шолохов – великий писатель, на ваш взгляд?
– Шолохов – очень крупный писатель. Тут даже разговора нет. Я совершенно не сомневаюсь, что он сам написал "Тихий Дон". Именно потому, что это книга очень молодого и литературно крайне неопытного человека. Мы с вами об этом говорили.
– Да.
– Для меня "Тихий Дон" – выдающийся памятник русской гражданской войны – войны, которая, как мы знаем, не прекращается. И конечно, если брать любовную линию, я думаю, это единственная русская книга, которую можно как-то сравнить с американской такой библией "Унесенные ветром". Они очень похожи.
– Дима, вы вспомнили Лимонова. Лимонов – блестящий писатель, на ваш взгляд, или нет?
– На мой взгляд, Лимонов – совершенно грандиозный прозаик, имеющий себе весьма мало равных в мире. Другое дело, что Лимонов, понимаете, очень наглядно доказал, что писателя в мире ничто, пожалуй, кроме литературы, не интересует. Вот он как-то всю свою жизнь посвятил литературе, и у него получилось. Он создал замечательный образ, заложником которого в известном смысле стал. Но меня это устраивает: вот такая полная растрата, полное превращение в буквы. Это по-своему самоубийственная, но, конечно, выдающаяся романтическая позиция.
– Заканчивая разговор о Нобелевской премии и ее лауреатах. Вы когда-нибудь лауреатом Нобелевской премии станете?
– Вы знаете, как-то вот, честное слово, мне это не очень важно. Я очень хотел бы, чтобы меня читали и помнили после смерти. Вот этого я хотел бы очень. Даже не из тщеславия, а просто... Помните, "всем лучшим во мне я обязан страху смерти". Как-то не очень я рассчитываю на международное признание. И потом: ну вот Роже Мартен дю Гар, например, гениальный писатель – Нобелевскую премию получил. Это очень хорошо. А, скажем, Амост Утоло, гениальный писатель – ее не получил. И, в общем, я не знаю, в каком ряду мне больше нравится быть. И Ахматова не получила. Вот как-то, понимаете, Ахматовой не пошло бы ее получить. Потому что человек, выстроивший на трагедии в огромной степени свой имидж, – он не должен быть признан, он не должен купаться в лучах славы. Я лучше буду где-нибудь с Ахматовой. Потому что оно и гармоничнее, и красивее. И всегда, согласитесь, лучше сказать: "А вы хотите Нобелевскую премию?" – "Нет, я хочу, как Ахматова". В этом есть эстетика.
"Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
– Я вас процитирую. "Постсоветская Россия – это труп плохого человека, в котором заводятся в основном микробы", – сказали вы.
– Сказал.
– Как вам живется в России?
– Да примерно так же, как везде. Я когда-то сказал – опять же, грех себя цитировать – "кому в России плохо, тому и нигде не будет хорошо". Я как-то, понимаете, не имею практически опыта жизни где-либо еще, но если я пока остаюсь в России, пока меня оттуда не гонят – значит, наверное, жизнь в России имеет какие-то преимущества.
– Вот я задам вам вопрос как выдающемуся русскому писателю, поэту – вообще...
– Я тоже, тоже очень высоко вас ценю, Дима!
– Не, не, не, я говорю, слушайте... Пусть со мной кто-то поспорит, знаете. Очень радостно сказать...
– Уже сейчас очень много желающих с вами поспорить, я уверен.
– Пусть поспорят. Очень радостно сказать человеку в глаза при жизни то, что ты о нем думаешь.
– Да, да, вы правы. Вы правы абсолютно.
– Так вот. Вам как крупнейшему создателю текстов, стихов и прозы... Видите, как я завернул? Что вы думаете о таком понятии, как "русский мир"? Что это такое?
– Это очень захватанное понятие, очень часто используемое. Для меня "русский мир" – это, скажем, поэзия Юрия Кузнецова. Я сейчас как раз о нем написал большую статью для "Дилетанта". Вот он очень хорошо сказал. У него – помните? – было такое замечательное сочинение. Там, собственно, восемь строчек. "Завижу ли облако в небе высоком? Примечу ли дерево в поле широком? Одно уплывает, одно засыхает, а ветер гудит и тоску нагоняет, Что вечного нету, что чистого нету. Пошел я скитаться по белому свету. Но русскому сердцу везде одиноко. И поле широко, и небо высоко". "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности. Вот так бы я сказал. А это мир людей очень талантливых, духовно недисциплинированных, не умеющих справиться с собой, но, безусловно, в каких-то своих прорывах они достигают иногда выше, чем люди высококультурные. Вот это ужасно. Но ничего не поделаешь, это так. Кроме того, "русский мир" – это мир, где ценится прежде всего то, что ты умеешь делать. Вот так бы я сказал. Мир суперпрофессионалов. Потому что все остальное в России не дает гарантии выживания.
– Вы знаете, этими двумя словами – "русский мир" – в последние годы очень многие напуганы. Особенно в сопредельных с Россией странах. Потому что и Путин, и другие руководители России часто употребляют эти два слова. "Русский мир" – и все: люди дрожат уже. Скажите, пожалуйста, россияне не задаются вопросом, почему везде, куда пришла Россия, люди живут в бедности, страхе и разрухе, почему этот хваленый "русский мир" никого из людей на оккупированных территориях в результате не осчастливил?
– А они вам ответят, что крымчане, например, чувствуют себя гораздо лучше. Туда пришла Россия, или Крым пришел в Россию. Тут с россиянами трудно говорить на эти темы. Россияне не особенно склонны к самокритике и самокопанию. Наоборот, им кажется, что везде, куда приходит Россия, ее встречают с ликованием: в Сирии, в Осетии, в Крыму... В Америку придет – и там будут очень рады. Так что, знаете, здесь палка о двух концах. Согласитесь: если бы крымчанам было так уж хорошо в Украине, они бы, наверное, не так стремились в Россию.
– Да, я с вами согласен. Отчасти. От большей части. Скажите, пожалуйста, Дима: а платежки за Крым россиянам приходят уже или еще нет?
– Что называть "платежками за Крым"? Если вы говорите о санкциях, то, понимаете, тут в чем феномен? Я бы сказал, до известной степени Стокгольмский феномен. Ведь разница между Россией и остальным миром все равно гораздо большая, чем разница между любыми двумя россиянами: между президентом и бомжом, между оппозиционером и патриотом... Слишком большая бездна отделяет Россию от лица остального мира. В этом смысле мы всегда и были, и будем... Не скажу "жертвами Стокгольмского синдрома", но мы живем вот с этим ощущением одинокой страны. Поэтому все санкции будут всегда приводить только к одному: к сплочению вокруг ядра. Не "ядра" в смысле "Единой России", а в смысле "национального ядра". Это абсолютно очевидный эффект. Понимаете? И он не первый раз наблюдается. Поэтому можно каким-то образом поссорить, наверное, Россию и ее руководство, но уж никак не путем санкций.
– Вы хорошо знаете, как после 68-го года, когда советские танки вторглись в Чехословакию, относились и в самой Чехословакии, и в целом ряде зарубежных стран к советским людям. Скажите, а сегодня, когда вы выезжаете за границу, как относятся люди там, за границей, к российскому паспорту?
– Знаете, я так давно не выезжал за границу, что, честно говоря, свежей информации у меня нет. Ко мне всегда относились неплохо. А как они относятся сейчас к паспорту, я не знаю. Вы ведь, небось, тоже давно за границей не были.
– Нет. Я езжу постоянно.
– А я вот никуда не езжу из-за ковида. И в последнее время я как раз имел замечательный шанс – как бы так сказать? – сосредоточиться, никуда особенно не торопиться. И очень мне интересно, как меня сейчас встретят в Украине. Особенно если учитывать, что выезд и въезд туда сопряжен сейчас с колоссальными трудностями. Но, я думаю, в случае чего вы мне поможете.
– Конечно. Вас встретят прекрасно в Украине. Потому что вас очень любят.
– Это очень взаимно. Спасибо.
– И потому что вы не испортили себе еще некролог, в отличие от многих.
– Дим, должен вам сказать, что испортить некролог нельзя. Для меня это, может быть, некоторый шок, но вот ни Меньшов, ни Табаков – что бы они ни делали, они себе некролога не испортили именно потому, что в России ценят только то, что человек умеет делать. Вот ровно это. Понимаете? Великое кино осталось. Михалков – ну, его кино, по-моему, никогда не было особенно великим, и подлинно народного фильма – такого, как "Любовь и голуби" или "Москва слезам не верит", – он за всю свою жизнь не снял. А вот Меньшов, а вот Табаков – да подавляющее большинство российских артистов – что бы они ни говорили, это неважно. Помнят культовое кино, помнят то, что ты сыграл и кому ты помог. Вот это тоже помнят. А что ты там... Ну, в России политика всегда была настолько нерелевантна, настолько неважна, настолько – больше того скажу – имитационна по своей сути, что в какую бы вы партию ни вступили, помнить будут не это.
Я не думаю, что была задача меня убить. Я думаю, была задача изуродовать как-то, сделать инвалидом
– Я сейчас буду читать то, что я себе выписал. 16 апреля 2019 года в Уфе, куда вы приехали выступать с лекцией, вы были госпитализированы в больницу с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился. В больнице начался отек мозга. Вы были введены в медикаментозную кому. Вы фактически еле выжили. Теперь Bellingcat, группа расследователей и журналистов-расследователей, которой доверяет весь цивилизованный мир, – заявляет, что это было отравление, которое организовали те же сотрудники ФСБ, отравившие Навального и Владимира Кара-Мурзу-младшего. Скажите, пожалуйста, а вот что вы помните вообще из этой ситуации, из этого отравления? Вот в Уфе вы себя помните?
– Нет, в Уфе уже не помню практически. Помню посадку самолета. Дальше не помню ничего. Но, знаете, как-то у меня нет ощущения, что я чудом выжил. Не знаю почему. Я довольно быстро пришел в себя уже в Москве. И я совершенно не помню всей этой суеты вокруг того, что самолет сначала отправили за мной, потом не отправили... Кстати, за мной никогда правительство никакого самолета не отправляло. Это был самолет "Новой газеты", ею оплаченный. То есть я пришел в себя в Москве. С этого момента я помню себя уже очень хорошо.
– А вот когда вы узнали о расследовании группы Bellingcat, что вы почувствовали?
– Гордость.
– Так...
– Ну как, Дима? Я же написал тогда: это государственная премия в том формате, в котором ее принять не зазорно. Это все-таки определенное значение, которое мне придают. Это приятно. Это ощущение какой-то, если угодно, литературной востребованности. Да? Все-таки, понимаете, в одном ряду с Навальным не нравится им. Да, это довольно приятно.
– А скажите, пожалуйста: вы жизнь вообще любите, жить хотите?
– Ну конечно, хочу. Иначе бы я, наверное, уже решил как-то эту проблему. Понимаете, ведь на самом деле я не думаю, что была задача убить. Я думаю, была задача изуродовать как-то. Ну, условно говоря, сделать инвалидом. Потому что убить-то можно и гораздо проще. Подкараулить где-нибудь. Но почему-то это не сработало. Это мне приятно. Я лишний раз вспомнил любимую цитату из Шкловского: "Надо себя чувствовать не то чтобы бессмертным, но трудноубиваемым". Это приятно.
– Как вы думаете, почему вас решили отравить?
– Ну, Дима, если бы я понимал что-нибудь в их логике, я давно бы уже ответил сам себе на этот вопрос. Понятия не имею. Я человек вообще абсолютно безвредный, но при этом если я им не нравлюсь – хорошо. Это меня как-то не скажу "вдохновляет", но наводит на всякие приятные размышления. Значит, я на правильной стороне.
– Вы чувствуете, что вам жизнь второй раз подарили?
– Нет. Почему-то не чувствую. Я вообще как-то, видите, не настолько, что ли, сосредоточен на этой проблеме. Я не очень много вообще об этом думаю. Я занят сейчас настолько сложной книгой, которая мне, я думаю, подарит действительно и бессмертие, и в каком-то смысле... По крайней мере я смогу в ближайшее время не думать о заработке. Это очень трудная книга, очень большая и трудная. И я занят ею настолько, что как бы у меня нет времени особенно фиксироваться на всякой там ерунде. Хотя это, конечно, не ерунда. И я безумно благодарен Bellingcat, которые осуществили это расследование. Но мне важно сейчас, во-первых, все-таки, что у меня начал ходить сынок. Да, кстати, и женщина рядом со мной довольно молодая, и надо все время как-то соответствовать ее интеллектуальным запросам. Я занят многими вещами, кроме этого. Понимаете?
– Ну, отравителей и тех, кто их послал, вы прокляли?
– Я же не знаю о них ничего. Чтобы человека проклинать, мне надо хотя бы его видеть. А я о них не имею никакого представления и об их логике ничего не знаю. Я уверен, что вон придет, например... Я, правда, мало в это верю, но настанет какой-то, тот или иной, вариант перестройки – и они мне будут рассказывать, что они меня спасали на самом деле. Потому что если бы меня тогда не траванули, то меня убили бы в подворотне. То есть выплывут какие-то совершенно неожиданные детали, о которых мы сейчас понятия не имеем.
– "Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего".
– А я и про знак ГТО даже не знаю.
– После всего, что с вами случилось, или даже, я бы сказал, не случилось, вам в России жить не страшно? В любой момент ведь могут повторить эту попытку. Вот как жить, зная это?
– Да понимаете, ужас в том, что эту попытку могут повторить где угодно. Вот скажешь ты про какого-нибудь обидчивого графомана, что он обидчивый графоман, и он начнет тебя преследовать. Дело в том, что идиоты же есть абсолютно в любой стране. Это такое универсальное явление. Так что не думаю я, что где-то жить не страшно. Жить страшно в принципе. Прекрасно, интересно, но страшно, да, и ничего не поделаешь. Поэтому нет у меня ощущения, что они будут что-либо повторять. Я скорее жду опасности с какой-нибудь другой стороны. А может быть, им не понравится что-нибудь из того, что я говорю, и они возбудят – или возбудят, как они говорят, – какое-нибудь уголовное дело за то, что я что-то не то сказал. Вот это возможно, этот риск существует. Я не то чтобы боюсь, но эту возможность всегда учитываю. А травить меня уже точно не будут. Бомба дважды в одну воронку не падает.
– Знаете, как Виктор Степанович Черномырдин говорил: "Возбудился Буш, и жена его возбудилась. Они наклонить хотят меня: господин Буш и господин его жена".
– Он был действительно кладезь. Да?
– Да, гений.
– Живая сокровищница русского языка. Вот был человек "русского мира". Я бы хотел, чтобы "русский мир" ассоциировался с ним прежде всего.
Русская оппозиция на самом деле – это огромный и мгновенно мобилизующийся ресурс
– Что вы, Дима, думаете о Навальном?
– Я думаю, что он герой. А герои – это очень редкая порода людей. Они в мирной жизни, как правило, с трудом себя находят. Достаточно вспомнить Савченко, у которой тоже есть потенции именно этого человеческого типа. Я не думаю, что Навальный будет когда-нибудь в числе руководителей России: у него другая миссия. Но как эталон поведения в трудных обстоятельствах, как эталон преодоления страха он очень интересен, конечно. Это настоящий герой. Я совсем из другой породы. Поэтому я за Лешей слежу с некоторым тайным восторгом, ужасом и, конечно, не скажу "завистью", но с комплексом неполноценности очень сильным: я так не умею.
– Выйдет Навальный из тюрьмы, как вы думаете?
– Безусловно.
– Скажите, пожалуйста, российская оппозиция, если она существовала, сегодня окончательно разгромлена?
– Ну, Дима, вот что вы спрашиваете? Оппозиция не может быть разгромлена окончательно. Оппозиция – это явление духовное, интеллектуальное. Каким образом можно абсолютно ее заткнуть? Это надо я не знаю как скомпрометировать писателя или, скажем, интеллектуала, чтобы он навеки заткнулся и сказал: "Да, я складываю оружие и разоружаюсь перед партией". Это нужно какие-то огромные приложить усилия. Оппозиция в России существует по определению. Она никогда не будет разгромлена. И, понимаете, вот это важная вещь: есть представление, что есть некий ядерный электорат Путина. И это такое молчаливое большинство. На самом деле молчаливое большинство в России – это всегда оппозиция, это всегда будет так. Это люди, которые ждут, когда власть что-то не так сделает. И они немедленно, в ту же секунду, переключатся. Только момент этого переключения – он никогда не может быть предсказан с достаточной четкостью. Но он, несомненно, будет. Помните, как Лужков: за день до отставки – 80 процентов поддержки, через день после отставки – 8 процентов поддержки?
– Просто утратил доверие. Вот в чем дело.
– "Утратил доверенность", как тогда писали. Это вот русское молчаливое большинство, которое никогда ни за кого, которое всегда выжидательно, которое активизируется, если угодно, ионизируется – в какой-то момент. Русская оппозиция на самом деле – это огромный и, кстати говоря, мгновенно мобилизующийся ресурс, как мы это видели, скажем, на рубеже 11–12-го годов. Куда эти люди потом делись? Никуда не делись. Они по-прежнему молчаливые и оппозиционные. А выходят они на улицу, не выходят... Мне кажется, оппозиция, которая не выходит на улицу, даже более опасна, потому что ее социологически никак не замеряешь: она непредсказуема. Но тем не менее русская оппозиция не то что не разгромлена, а наоборот, как говорил покойный Горчаков, сосредоточивается.
– Хорошо. А что может заставить россиян массово выйти на улицу и устроить, в общем-то, московский Майдан? Возможен вообще Майдан в Москве?
– Майдан – это совершенно не русский формат. И Майдана никогда не будет. И, может быть, Майдан и не нужен. Есть разные форматы. Есть "русский бунт, бессмысленный и беспощадный", чего боже упаси. Есть Бархатная революция, и есть довольно стремительный в таких случаях переворот сверху. Есть разные формы гражданского неповиновения. Они тоже довольно эффективны. Разное бывает. Понимаете? В какой форме это произойдет в ближайшее время и в какое время произойдет – этого никто вам никогда не скажет. Но, может быть, это и к лучшему, что в каждой стране своя форма национального несогласия. И как это будет развиваться, этого я не знаю. Я вообще в таких случаях никогда прогнозов не даю. Я вижу вектор, а не масштаб. Вектор очевиден. Оппозиционность эта тайная, условно говоря, скрытая теплота патриотизма – растет. Юмор и скепсис в отношении всех институтов власти растет стремительно. Отношение к парламенту и парламентаризму, что очень грустно на самом деле, становится просто откровенно издевательским. А что будет – этого я не знаю. Мое дело, что я правильно все делал. А как будет делать большинство, меня, честно говоря, занимает очень мало.
– Вот вы говорите: оппозиция сидит и ждет. А вы ждете? Или просто сидите?
– Знаете, есть известная фраза: "Долго ли ждать перемен? Если ждать, то долго". Я стараюсь делать то, что от меня зависит, чтобы развеять особенно наглую ложь и как-то по мере сил разбить наиболее опасные заблуждения. В этом заключается суть моей журналистской работы. Писательскую я сейчас не затрагиваю. Писательская – это более масштабное осмысление происходящего. Но я не жду, нет. Мне кажется, что я даю надежду отчаявшимся. Таково мое, как я его понимаю, предназначение. И очень легко сказать про народ, что это у него рабская сущность. Сказать это про конкретного человека крайне сложно. Хотя бы потому, что конкретный человек может обидеться. И конечно, я вокруг себя рабов не вижу. Я, напротив, вижу вокруг себя людей, которые прекрасно понимают происходящее. Ну а кто видит вокруг себя рабов – так, понимаете, боюсь, что "красота в глазах смотрящего".
Убежденные люди не нужны. Ни коммунистам, ни гэбистам они не нужны. Им нужны люди, которых можно мягко взять за фаберже, сказать: "Ты здесь украл и здесь украл". Им нужны коррупционеры
– Скажите, пожалуйста, Дима, свобода слова в России сегодня есть?
– Свободы слова нет нигде и никогда. В России есть право много высказать в интернете и право за это поплатиться. А идеальная свобода слова так же недостижима, как искренность, по Пушкину. Нет, конечно, можно представить себе меньше ограничений, например, на телевидении. Мне бы хотелось видеть телевидение более раскрепощенным. Но понятие "свободы слова" с появлением интернета перестало что-либо значить. Сегодня человек, говоря о несвободе, чаще всего оправдывает личную трусость. Как это ни ужасно, это так.
– А россиянам свобода слова вообще нужна?
– А россияне в этом смысле ничем не отличаются от любого другого народа. Свобода слова нужна человеку. Она в человеческой природе. Когда ее нет, возникают нагноения. Понимаете? Возникают такие закрытые, заболоченные зоны, где нет движения мыслей. Поэтому о многих вещах нельзя сказать вслух. Это трагедия, безусловно. И возникает гнойный нарыв. Его потом приходится вскрывать с большими потерями для организма в целом. Поэтому нужна, конечно: как и всем, нужна. Россияне такие же люди, как все остальные.
– Видите ли вы феномен российской пропаганды? Государственной пропаганды.
– К сожалению... Понимаете, в чем беда? Я вижу в этой пропаганде, опять-таки, слишком много общеисторического и общечеловеческого. Это не в России началось. Это любая пропаганда, особенно тоталитарная пропаганда в ХХ веке, давала нам огромное количество таких примеров. Мне как раз очень горько, что ничего не сдвинулось, по сравнению с фильмами 70-х годов об Израиле или о ЦРУ против СССР. Все это анатомия протеста. Просто сегодня анатомия протеста еще и заглядывает к оппозиционерам в постель. А тогда это было нецензурно. Но как раз ничего нового в этом смысле нет. И я очень надеюсь, что XXI век подарит нам более изощренную пропаганду. Но ведь проблема-то в том, понимаете, что им хорошая пропаганда не нужна. Они считают: чем топорнее, чем грубее, тем сильнее. "Мы можем себе позволить быть топорными". Тот же Пастернак говорил Тарасенкову: "Че они к нам не обращаются? Мы бы лучше придумали". Им не надо лучше. Понимаете? Им надо в лоб просто, рауш-наркоз какой-то. Ну, как хотят, так и идем. Мне лучше от того, что эта пропаганда не особенно сильно действует. И более того: чем больше этой пропаганды идет, тем больше, когда ты ходишь по улицам, подходят, пожимают руку. Да если бы она действовала, было бы иначе.
– Ну а российская пропаганда хуже советской или лучше, на ваш взгляд?
– Все российское по сравнению с советским деградировало примерно так же, как эстетика 20-х годов по сравнению с эстетикой Серебряного века. Понимаете? Проблематика Серебряного века: любовь, смерть, суициды, философия – что называется, брошенная в пол, как говорит Губерман. Это та же самая вещь абсолютно. Когда ты, условно говоря, бросил в массы проблематику 10-х годов: сложную, изысканную и так далее – или, условно говоря, вся советская литература. Ну, российская литература сейчас – это советская литература на ступеньку ниже. Я вот такой вариант Стругацких, Гузель Яхина – вариант позднего Айтматова, Александр Терехов – вариант позднего Трифонова... Мы все продолжаем делать то, что прервалось, когда эту фигуру смели с доски сложные комбинации. Ничего принципиально нового с тех пор не возникло.
– Дима, ну вот я не отказываю себе в радости наблюдать каждый день на российских федеральных каналах в прайм-тайм: Украина в полный рост. И появились даже такие звезды российские, как Соловьев, Скабеева. Вы, кстати, глядя на Соловьева и Скабееву, не возбуждаетесь?
– А я на них не гляжу. Понимаете, Дима, это у вас какой-то мазохизм.
– Как вы пусто живете...
– У меня ребенок растет. Поэтому дома телевизора нет. И его нет уже лет 12, наверное.
– Замечательно.
– А зачем вам этот мазохизм? Вам нравится, что ли?
– Нет. Я могу судить по тому, что они говорят, о ветрах, которые дуют в головах у хозяев Кремля.
– Дима, я должен вас – не знаю, очаровать или разочаровать, – но там дуют совсем другие ветры. Это, понимаете, какая штука... Вот вы, допустим, хорошо знаете русскую идеологическую ситуацию 70-х годов. Тогда существовала тоже русская партия, возглавляемая главкомсомольцем Павловым. Существовала, условно говоря, конспирологическая публицистика во главе с Михаилом Лобановым. Существовали идеологи Кожинов и Палиевский. Они уже тогда говорили примерно то же самое, что сейчас говорят по телевизору. Были радикалы вроде Семанова, которые и больше говорили: что христианство России навязано, а мы языческая страна, а христианство – еврейская выдумка. Но они всегда предлагали себя власти, предлагали себя в качестве идеологов и в качестве карательного меча. У них была элементарная карьерная цель: "Возьмите нас, а мы уже с жидами наведем порядок".
– Какая "хорошая" мысль...
– Их не брали. Даже не потому, что они оголтелые, что они фанатичные, а потому что этой власти убежденные люди не нужны. Ни коммунистам, ни гэбистам они не нужны. Им нужны люди, которых можно мягко взять за фаберже, сказать "ты здесь украл и здесь украл". Им нужны коррупционеры. Понимаете? Вот старая фраза Стругацких "нам умные не надобны, а надобны верные" – она сегодня скорректирована: "нам верные не надобны – надобны продажные". Поэтому люди, которые орут по российскому телевидению, – они не являются рупором власти. Они предлагают себя власти в качестве рупоров, в качестве идеологов и в качестве ведущих политиков. А их не берут. Понимаете? Они хотели быть начальниками, а им дают нарочито – я бы сказал, издевательски – скромные позиции. И на выборах они ничего не получат. Это люди, которые демонстрируют пену у рта, отчасти играя на руку этой власти, но это такая разводка: "Терпите нас, а то придут вот эти". Но уверяю вас: "вот эти" никогда не придут. Точно так же, как и у вас, самые оголтелые нацисты никогда не дорвутся до власти.
– Сто процентов.
– На них и будут опираться. Опираются на тех, кто управляем. Понимаете?
– Очень хороший ответ.
– Поэтому нацисты всех мастей так между собой солидарны: они всегда обижены. Сколько я знаю израильских правых, которые ненавидят меня точно так же, как русские националисты. И в этом они абсолютно солидарны.
 Фото: Воронежский Камерный театр / Facebook
Фото: Воронежский Камерный театр / Facebook
– Вы однажды сказали: "Чем больше я живу при Путине, тем лучше понимаю Ленина". Что вы имели в виду?
– Именно то, что сказал. Никаких дополнительных смыслов. Нет, чем дольше живешь при несменяемой власти монархического типа, тем лучше понимаешь революционера, который не верит в так называемые перемены сверху. Ленина же всю жизнь обзывали монархистом: "Бланкисты, бланкисты! В заговорщиков играете". Хорошо, простите: а как он должен был делать? Что, он должен был верить в легальную оппозицию? Да? Он должен был солидаризироваться, может быть, с эсэрами? Кстати, солидаризировался до известного момента. А может, он должен был с Милюковым? Милюков же тоже очень за многое критиковал монархизм. Но Ленин выбрал иной путь: он возглавил революцию, когда она, кстати, без него и вообще без его участия началась. Приехал с идеей перерастания советской власти во власть всенародную. Тогда еще это было положительно, было двоевластие. Он это двоевластие, в общем, разрушил. Ну а что делать? Ему же не оставили никаких легальных форм протеста. Кстати говоря, большевики – они же первыми попытались прорваться в Думу. Это не их вина, что Малиновский, главный думовец, оказался провокатором. Во что, кстати, Ильич до последнего не хотел верить, защищал его перед судом чести: несчастный человек, понимаете, верил, что "не может же он". Они действительно пытались играть в парламент, они пошли играть в свободу слова, они сотрудничали у Минского в "Новой жизни". Пытались. Но, к сожалению, вся свобода слова закончилась убийством Баумана, после манифеста, вы знаете, ничего не вышло. Хотя манифест – господи, как все надеялись... Помните репинскую картинку? Курсистки орут, профессора бородами машут – восторг. Вот мне все время пишут друзья, которые устраивают мой вечер: лето, трудно, да придут ли еще... Как вы полагаете, придут киевляне стишки послушать? Или это уже не надо никому?
– Не придут – прибегут.
– Дима, какой вы милый... Спасибо вам большое.
– Сам приду. В первом ряду буду сидеть.
– Киевляне, слышите ли вы Гордона? Спасибо, спасибо.
– Сяду в первый ряд и буду подавать вам тайные знаки.
– Спасибо. Я яблоки буду кидать. Спасибо, дорогой.
Как в Москве не может быть Майдана, так у нынешнего Путина не может быть встречи с оппозицией
– Скажите, пожалуйста: вы до сих пор оппозиционны по отношению к Путину?
– Ну что значит "я оппозиционен по отношению к Путину"? Лично Путин в этой ситуации играет роль пренебрежимо малую. Он уже давно, мне кажется, активным – есть модное слово "актором" – не является. Здесь совершенно другие силы, которые без Путина не представляют никакого интереса, которые сразу же будут оттерты более талантливыми. Это такие лоялисты, которые действительно чувствуют, что Путин как бы гарант их процветания. К ним я в оппозиции. К гэбне разнообразной я в оппозиции. К идеологам авторитаризма я, конечно, в оппозиции. А лично Путин... Ведь на самом деле, понимаете, проблема не в нем. И замена Путина на Утина, на Жутина проблему совершенно не решает.
– Вы дважды в свое время отказывались от встречи с Путиным. А сейчас согласитесь?
– Казалось бы, я должен радостно подхватывать эту легенду. Но это же тоже, понимаете, издержки масскульта. Я не мог там присутствовать физически. Один раз эта встреча была назначена на следующий день, а я в Воронеже с выступлениями. Я физически туда не попадаю. Другой раз ее перенесли: она была назначена на другой день, а ее поставили на день рождения Путина. Я не могу в день рождения к человеку подходить и говорить: "Я не согласен в том-то и том-то". Подошел – и первым делом что? "С днем рождения?!" И в прессу попало бы это. Возникает двусмысленная ситуация, когда ты оказываешься либо хамом, либо конформистом. Меня и то, и другое не устраивает совершенно.
– Но вы бы сейчас с ним встретились? У вас к нему вопросы есть?
– Да ну это уже, понимаете, ситуация немыслимая, как машина времени. Эта ситуация вышла уже давно из-под контроля, она сменилась, она совершенно другая. Хочу ли я поздороваться с собой молодым? Ну конечно, но это невозможно. И он сейчас не захочет ни с кем встречаться. Он сейчас выдерживает длительнейшие карантины перед встречей с кем бы то ни было. Ему это не нужно совершенно. Этот формат закончился. Понимаете? Как в Москве не может быть Майдана, так у нынешнего Путина не может быть встречи с оппозицией. Это хорошая была бы история, действительно: там, в июле 17-го года, устроить низложенному Романову встречу с Лениным, еще объявленному в розыск. Это мог бы быть интересный разговор, но, к сожалению, абсолютно бессмысленный. Хорошая идея. Я, может быть, использую ее в книжке.
– Дима, Путин – он навсегда?
– Для себя – безусловно. То есть пока он жив, он будет для себя главным. А для России, я не знаю. Это совершенно непонятно. Понимаете, настолько непредсказуемая ситуация... Честно говоря, а кто бы предсказал такое развитие событий 13–14-го года в Украине?
– Да, да.
– Майдан возник ни из чего. И тем не менее... В российском формате тоже много приятных может быть неожиданностей. Я знаю одно: что всегда будут находиться люди, которые будут на Путина молиться, класть на него цветы, говорить "он хотел, но не успел; он хотел, но ему не дали", жалеть о нем, как о Сталине. Это будет. Конечно, их будет меньше, чем о Сталине. Потому что послепутинская Россия, резко разочарованная и сильно поумневшая, будет вообще совсем не такой. Но то, что о нем будут очень многие жалеть и говорить: "Вот при Путине я развернулся..." – таких людей несколько сотен будет, конечно.
– А как и когда Путин может закончить свое правление?
– Да я, честно говоря, не знаю, почему вас так это интересует. По-моему, это совершенно неинтересно. Идеологически он его уже закончил. Уже история ушла далеко вперед. А когда оно физически закончится? Ну, это как в "Осени патриарха": уже никто не знал, где он, живой он или неживой, какие-то легенды... Это совершенно неважно. Тут важно другое: что придет на смену. Вы представляете себе, какое количество идеологем придется просто пересматривать. Пересматривать во многом все сакральные понятия: может ли Родина быть неправа, может большинство быть неправо... Это, я думаю, будет для россиян переделка гораздо более радикальная, чем в 56-м году. Потому что в 56-м году социализм не подвергался ревизии. А здесь ревизии предстоит подвергнуть огромное количество догм, открыть невероятное количество документов. Я помню, мне один замечательный российский социолог – не будем называть имен – сказал: "Если после перестройки разоблачения брежневщины хватило на пять лет, то здесь это будут все 20. Можно будет ничего не делать, только разоблачать". И это будут потрясающие разоблачения. Какой там Bellingcat? Люди будут не отрываться от телевизора. Это будет люто интересно. И я, конечно, дорого дам, чтобы дожить. Не участвовать – участвовать в этом мне совершенно неинтересно. Я гораздо больше хочу поучаствовать в новых каких-то педагогических экспериментах. Но посмотреть мне будет очень интересно.
– Дима, кто может заменить Путина?
– Дима, менять Путина не надо – нужна совершенно другая система. Если вы имеете в виду, кого они готовят в преемники...
– Да.
– Ну откуда я знаю, Дима? Я специалист по истории сюжета. Вот про это я могу много рассказать. И, кстати говоря, тут довольно многие сюжеты намечаются. Сюжет главный сейчас в истории человечества – это диверсификация: люди делятся на два – может быть, больше – совершенно разных типа. Будут две России: одна Россия официальная, другая – неофициальная. Их сосуществование будет более мирным, чем сейчас. А какая Россия будет официальной, я не знаю. Но роль ее будет минимальной. Это будет, знаете, как король при конституционной монархии. Это будет король, который ничего не решает. А настоящая Россия под этой коркой будет стремительно двигаться вперед. Как это пойдет, я не знаю. Как это произойдет, не знаю. Но результат будет такой: две России.
– Ну, заканчивая разговор о Путине... Как специалист по истории сюжета, скажите, пожалуйста: как через 100 лет в учебниках истории будет описана, на ваш взгляд, путинская эпоха?
– Господи, ну тоже, Дима – через 100 лет не будет учебников истории. Будет 20 разных равномерно существующих, равноправно существующих концепций. Мы будем исповедовать одну, путинисты будут исповедовать другую. Разумеется, очень многие факты путинской истории во всех учебниках будут трактоваться как позорные. Но одними с той стороны, что он не дошел до Мариуполя и до Киева, когда было можно. Другими – что он вообще отправился в этот поход. То есть единой концепции истории не будет. И больше вам скажу: большинство людей не будет смотреть один и тот же телевизор. Телевизоры даже будут разными.
– Если они будут. Может, их и не будет уже.
– Если они будут. Вот! Понимаете? Я вот так вам скажу... Я сейчас действительно пишу об этом книгу, поэтому мне эта проблема близка. Ведь диверсификация пойдет и дальше. Уже почти принята концепция человеческой личности, которая не одна. В человеке множественная личность, как в Билли Миллигане. Вот это будет легализовано к концу XXI века, говорю вам точно. И я пишу как раз роман о человеке, в котором живут гиперлоялист (такой, гиперпатриот), абсолютный оппозиционер и центрист, сторонник власти. И самое ужасное, что всех троих нынешняя ситуация абсолютно устраивает. Им очень нравится. И периодически у них есть шанс сместить центриста, но они говорят: "Нет, нет, пусть остается он. Без него было бы хуже". Вот это очень такая, мне кажется, убедительная картина ближайшего времени. Поэтому ждать, что будет некая генеральная концепция путинской эпохи, – нет, будет бесконечное множество ветвящихся версий. Я сам, может быть, этого не хочу, но пора привыкать к этому.
 Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com
– Как человека, который очень любит Украину, я это знаю, который часто бывал у нас, знает многие уголки Киева, которому это все близко, я хочу вас спросить. Последние 7,5 лет, когда наша страна так страдает... И каждый страдает. И я страдаю тоже. Вы сострадаете Украине?
– Я, безусловно, сострадаю Украине. Я, безусловно, очень остро чувствую вину. Вот только одному я не сострадаю: разговорам о том, что всякий русский либерал кончается на украинском вопросе.
– Ну, вы не кончаетесь точно.
– Нет, я знаю. Но они идут. Понимаете, когда начинаются, иногда и в Киеве, к сожалению, – разговоры о том, что никогда ни один русский не будет по-настоящему свободен, "страна рабов, страна господ"... Вот это мне больно. От этого я страдаю, потому что это неправда. А так – я так глубоко сострадаю и такое чувство вины испытываю, что кушать не могу. Но слава богу, большинство моих украинских друзей – они понимают, что, по крайней мере, я что могу, делаю.
– Конечно. Скажите, пожалуйста: Зеленский вам нравится?
– Как актер – безусловно. Как президента я его не знаю и не хочу в это лезть. Я знаю, что он много сделал для обмена пленными. Обмен пленными – это важная штука. А судить о нем как о президенте я совершенно не могу. Мне кажется, что он все-таки довольно загадочный персонаж. Я не знаю, близко ли вы с ним знакомы. По-моему, он человек-загадка.
– Вы себе хотели бы такого президента, как Зеленский?
– Да я, честно говоря, никакого президента себе бы не хотел. Я ни с одной властью не буду в комфортных отношениях. Нет, не хотел бы, нет. Я бы по крайней мере хотел, чтобы у вас все было в порядке. Потому что я из тех немногих, кто абсолютно не радуется украинским проблемам. Наоборот, я так был бы счастлив, если бы у вас все получилось... Я же человек либерального склада. И я хочу, чтобы идея самоуправления народного торжествовала бы в мире хоть где-нибудь. Потому что в Штатах она уже, скажем, имеет вид настолько бледный, уязвленный... Я очень хочу, чтобы все получалось, чтобы не было рабской политкорректности, чтобы вы реализовали свой шанс на генеральное обновление либерализма. Но как это получится, мы еще посмотрим.
– Какая судьба, на ваш взгляд, ждет Беларусь и Лукашенко?
– Вот уж ничего не знаю. Как не мог я предположить и август прошлого года. Судьба, мне кажется, хорошая. Судьба примерно такая же, как и у большинства в Восточной Европе: большей ее части. Во всяком случае в том, что Лукашенко – уходящая натура, я не сомневаюсь абсолютно. Но эта уходящая натура, уходя, еще может столько жизней сломать... Вот уж действительно человек, который пережил свое время и это хорошо понимает: он же все-таки не безумен. Но мне кажется, что много еще предстоит Беларуси трагических эпизодов. Трагифарсовых, конечно, но от этого не менее трагических. Ведь, понимаете, сколько мы ни говорим о том, что Лукашенко – фарсовая фигура, но Протасевич сидит, и Бабарико сидит, и пытки продолжаются, и духовное растление нации продолжается. Это все не шуточки.
– Совместно с Михаилом Ефремовым, потрясающим актером, вы регулярно издавали литературные видеовыпуски в рамках проектов "Гражданин поэт" и "Господин хороший". Вам жаль Мишу Ефремова?
– Мне безумно жаль Мишу. Случилась огромная трагедия. Кстати говоря, я думаю, что мы о подноготной этой трагедии можем многое еще узнать. Потому что за руль этого автомобиля, я думаю, кто-то его подтолкнул или, во всяком случае, кто-то его подпоил. То есть некая ситуация здесь, не совсем мне понятная. Я Мишу знал много лет, и никогда в жизни Миша в таком состоянии за руль не садился. Там что-то было явно не так. Но я не берусь об этом судить: я не следователь и не адвокат. Я знаю только, что Миша Ефремов был и остается моим другом. С ним случилась трагедия. Я уверен, что он вернется и будет еще своим искусством радовать людей. И тем людям, которые его топтали, будет стыдно.
– Вы с Мишей поддерживаете связь сейчас?
– Поддерживаю.
– Как вы думаете, он скоро будет на свободе?
– Этого не может знать никто, Дима, честное слово. Я вообще считаю, что наказан он по максимуму, наказан показательно. Почему именно, гадать не берусь. Но думаю, что во всяком случае в профессию он вернется. А как и когда – это пусть решают люди, которые профессионально занимаются адвокатурой.
– Дима, у вас по-прежнему дома много животных?
– Нет. Сейчас совсем нет. Просто у меня физически времени нет ими заниматься. У меня сейчас даже и цветов-то мало. Но поскольку есть бебс малолетний, то все время занимает, естественно, он. Он заменяет собой растения, животных, хобби – какие-либо, так сказать, внебебические интересы. Я только этим сейчас живу и наблюдаю за его стремительным развитием. Он поразительно быстро осваивает мир. И чувствую я, что он этому миру даст жару.
 Фото: Зеленый театр / Facebook
Фото: Зеленый театр / Facebook
– У вас недавно умерла мама. Как изменилась ваша жизнь?
– Внешне – никак. Внутренне – очень сильно. Понимаете, это не та вещь, с которой можно примириться. Но с другой стороны, видите, все-таки как человек, довольно близко там побывавший, я имею достаточно убедительные доказательства бессмертия души, поэтому у меня на эту тему никаких особых рефлексий нет. Я помню, как однажды мы спорили с Кушнером, существует ли бессмертие души, и в этот момент вошел Андрей Арьев: как раз на реплике Кушнера "я сомневаюсь". Он сказал: "Сомневаешься ты или нет – ты там будешь". Это есть, это объективно. Поэтому у меня нет ощущения, что мать отсутствует. У меня есть ощущение, что она не всегда меня одобряет, не все одобряет, что я делаю. Но ощущение живой полемики у меня есть.
– А вы получили какие-то доказательства бессмертия души?
– А знаете, у меня доказательства всегда были. То есть я не увидел там ничего принципиально нового. Но то, что душа бессмертна, – это вы можете даже к бабке не ходить. Другое дело, что она не у всех есть. Душа – это то, что бессмертно. Но есть такие сущности, которые сознательно отказались от этой возможности. Этот выбор каждому предлагается, но некоторые не захотели. Вот у них все будет не очень хорошо.
– Ваша третья жена – прозаик Екатерина Кевхишвили. Она...
– Вот это тоже мне очень интересно, откуда взялось это – что она прозаик?
– Из "Википедии".
– Она переводила несколько книжек с английского. Она, в общем, неплохо пишет, если надо, но она совершенно не прозаик и даже не поэт. Более того, моя третья жена – это единственная моя жена... А, нет, впрочем, первая все-таки вирусолог. Она хотя и доктор наук, но по другим делам. А Катька – единственный человек, который даже не печатался никогда под своим именем. Даже научных статей у нее нет. Я уверен, что когда-нибудь она что-нибудь напишет, и я сделаю все, чтобы это не были мемуары, но так – она совсем не писатель. Просто передайте это всем, от кого это зависит, to whom it may concern.
 Фото: Ekaterina Kevkhishvili / Facebook
Фото: Ekaterina Kevkhishvili / Facebook
– Но у вас разница в возрасте. Это ощущается как-то?
– Нет. А сейчас, понимаете, у многих моих друзей такая ситуация. И мы часто с ними по-стариковски эти наши проблемы обсуждаем. Потому что народилось такое феноменальное поколение, которого не было в наше время. Понимаете, тогда таких не делали. Иначе мы бы, конечно, женились на них сразу. Я был очень счастлив во всех своих браках, и мы все дружим. Не так давно в очередной раз собирались все вместе.
– Замечательно.
– Вот. И дети наши... Дети наши, кстати, дружат. И я не теряю надежды женить старшего сына на Надькиной дочери от второго брака, потому что там девушка изумительная совершенно. И я был бы счастлив такой невестке. Ну вот попробуем, хотя у него все в театральной среде больше знакомства. Но я к тому, что если бы у меня была возможность встретить такую, как Катька, в мои, скажем, 25, то, вот клянусь вам: я бы никогда не посмотрел налево, у меня даже мысли такой не возникло бы. Меня мучает одно: как бы ей не надоесть. Потому что вот это поколение волшебное – оно соображает так быстро, оно настолько все понимает... Вот я люблю очень собирать своих выпускников и им рассказывать какие-то новые сюжеты. Почему? Потому что им ничего не надо переводить. Понимаете? Я открыл рот – и они все поняли. И такая же ситуация в Штатах, в Киеве, в Польше, в Германии – где бы я ни встречался с 20-летними, они умнее нас. И поэтому жить с таким человеком ужасно весело. У него довольно высокая эмпатия. Я боюсь только, что вот когда вырастет малой, я уже совсем не буду ему интересен. Потому что у него сообразительность какая-то невероятно быстрая. В общем, понимаете, дети спасут мир. Хотите вы или нет, но это так.
– У вас от второго брака дочь Евгения и сын Андрей. Чем они занимаются?
– Дочь Евгения – психолог. Причем клинический. И вот это, кстати, очень меня выручает, потому что я в любом случае могу проконсультироваться у нее. И, знаете, она меня познакомила, кстати, со своим будущим мужем, и я убедился, какими точными приемами – этому только можно научиться – она выстраивает отношения. Все-таки психолог в семье – это очень полезно. Она хороший психолог, пользующийся, в общем, некоторым спросом. А Андрюха... Вот я сейчас полечу, поеду в Питер к нему на премьеру. Они сделали новый спектакль, сами написали пьесу. Это о парижском сопротивлении из русских эмигрантов. Примерно на ту же тему, что у Михалкова "Рай". Сами написали пьесу, сами нашли продюсера, сами ее поставили. Вот я поеду смотреть, что они сделали. У нас там соседствует два мероприятия: у меня 17-го лекция, а у него 18-го премьера. Мне очень нравится то, что Андрей делает. Он скрытный малый, никогда ни о чем со мной не советуется – ни о личной жизни, ни о профессиональной. И главное – поскольку он актер, я никогда не могу понять, где он врет. Потому что он врет очень убедительно. Но я хочу надеяться, что ему со мной не скучно. Это единственное, на что я надеюсь.
– Дима, скажите, глядя на своих старших детей, в науку генетику вы верите?
– Вот, Дима, как раз в генетику я верю мало, потому что Женька – она ведь Иркина дочь от первого брака. Она со мной выросла с четырех лет. И похожа она на меня тем не менее колоссально. В разговоре с ней мне совсем не надо переводить и объяснять. И, кстати, советы, которые она дает как психолог, всегда поразительно, так сказать, наглядны и точны. Нет, это не генетика – это что-то другое. Я верю в то, что люди, которые вместе долго жили, – они приобретают какие-то сложные сходства. И мне с Женькой безумно интересно –смотреть, как в ней сквозь совершенно другую внешность, совершенно другие правила жизни – как в ней проступают мои черты. Это жутко забавно.
– У вас с Катей недавно родился сын Шервуд. Кстати, почему Шервуд?
– Вы знаете, понятия не имею. В таких случаях мать имеет полное право назвать его как хочет. Она его назвала Шервудом. Наверное, потому, что это любимый ее писатель – Шервуд Андерсон. Кстати, и мой любимый тоже. А может быть, потому, что это как-то связано с Шервудским лесом. А может быть... Когда она это имя придумала, она объясняла это так: "Ну, оно такое пчелиное..." Что она имеет в виду – этого не понимает никто. Но мать в таких случаях решает. Понимаете, ведь Ирке тоже приснилось, что ребенка будут звать Женя. Хотя никого из родственников так не звали, и это со святыми никак не... В крещении он Александр, Шура.
– Задам вам глупый вопрос. Любимая ваша книга и любимый фильм. Вы для себя это понимаете?
– Ну, любимой книгой, наверное, как был, так и остался "Уленшпигель", потому что он наиболее универсален. Любимый фильм как был, так и остался "Чужие письма" Рязанцевой и Авербаха. Я очень консервативен в таких вещах. Ну, что-то прибавляется же всегда. Прибавился Линча "Человек-слон". Прибавилось там – не знаю – Честертона: "Человек, который был Четвергом". "Анна Каренина" осталась, "Повесть о Сонечке" осталась. Я очень, к сожалению, в этом смысле... Я никого не балую разнообразием.
 Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook
Фото: Дмитрий Львович Быков / Facebook
– Что вы сейчас смотрите? И что читаете?
– Смотрю я, вы не поверите, "Очень странные дела". Могу вам сказать, почему.
– Да.
– Ну просто потому, что жена порекомендовала. Там есть один сюжетный ход, вот эта идея изнанки, если помните, которая совпадает более или менее с одной моей идеей. Ну чтобы не повторяться просто. Понимаете? А читаю я сейчас, тоже вы не поверите, начитываю вслух – это мое любимое хобби и один из любимых заработков, я начитываю книжки. И вот сейчас я начитываю книгу Валерия Попова "Темная комната". Такой советский, детский саспенс, абсолютно гениальный. И я когда ее перечитываю, думаю: "Господи, какой же все-таки Попов большой писатель... Как мы его до сих пор недооцениваем... Что вот это чудо рядом с нами живет и ходит по одним улицам с нами". А для души я читаю – тоже вот не поверите... Я ехал в такси, и вдруг таксист мне говорит: "У меня есть книжка, которая вам сейчас нужнее, чем мне. Но дайте мне слово, что вы будете сейчас это читать". – "Да, даю слово". И он достает неожиданно из бардачка 13-й том Достоевского в издании Суворина 1883-го года: "Дневник писателя". Я поклялся, что соберу полностью это собрание, как собрал когда-то Леонида Андреева. Разрозненные тома продаются по дешевке. В том числе, кстати говоря, в Киеве. И вот я сейчас читаю "Дневник писателя" и думаю: "Господи, какой невыносимый человек... Гениальный, невыносимый, страшно одаренный". Вот как Россия, невыносимый и прекрасный. Просто с этой книгой сейчас не расстаюсь. Обедаю с ней.
– Вы сейчас сказали, что в такси ездили. А у вас когда-то "жигули" были, я помню. Правда?
– "Жигули" у меня есть, но я на них езжу в основном на дачу.
– Вы до сих пор ездите на "жигулях"?
– Вчера менял колесо. Чего нет? Прекрасные "жигули". У меня еще этот самый... Моторчик стеклоомывателя сломался. Я вот его в воскресенье поменял. Нет, "жигуль" ездит. Что вы?! Это неубиваемая машина.
Я не пью никакие анксиолитики. Я пишу, и это меня спасает
– Вы исключительно плодовиты. Как вам удается так много писать?
– Дима, я пишу очень мало. Я пишу раз в два-три года роман, ну, раз в неделю – стихотворение, и иногда – колонки. Ну, кроме этого, я пишу очень много вещей, которые не печатают. Ну, какие-то идеи мне приходят, какие-то рассказы. Сейчас я неожиданно для себя написал три повести довольно больших. Но я не думаю, что я буду это сейчас печатать. То есть я пишу либо в расчете на будущее, либо в расчете на автотерапию. Знаете, это мой способ самолечения. Зато я не пью никакие транквилизаторы, никакие анксиолитики. Я помню, как-то к дочке пришел и говорю: "Ты знаешь, Женя, часто меня смущает такое непривязанное беспокойство. Не можешь ли ты мне выписать что-нибудь легкое анксиолитическое?" – "Быков..." Меня всегда в семье называют "Быков". "Все люди, которые выписывают таблетки, лечат не причину, а следствие". – "Жень, все врачи, у которых нет круглой печати, говорят о причине, а не о следствии. Ну дай мне что-нибудь же". Она просто сказала: "Будет у тебя паническая атака – съешь эклер". – "Ну это меня разнесет нечеловечески". – "Тогда извини. Тогда современная наука бессильна". Но я не пью никакие анксиолитики. Я действительно пишу, и это меня спасает. Конечно, заложникам моего самолечения приходится быть людям, которые вынуждены все это читать. Но они могут и не читать, в конце концов. Понимаете? Мне важно написать и забыть. Вот я написал сейчас такую повесть, которая мне очень нравится пока самому: она называется "Сунцов". Не "Сенцов" ни в коем случае. Там это совпадение обыгрывается, сходство – "Сунцов". Мне кажется, из всей моей фантастики это самое интересное произведение. Вот это я могу анонсировать. Скоро вы будете над ней хохотать до упаду. Но она очень страшная при этом.
– Фантастика. Я считаю, что у вас просто фантастическая работоспособность. Скажите: вы не устали вообще? Не накопилась эта усталость?
– Я устал от одной вещи, от которой я не могу избавиться. Видимо, это со мной навсегда. Я устал сомневаться в себе. Знаете, мне какой-то дурак скажет, что я дурак, и я ему поверю. Но в социальных сетях есть такая функция: "заблокировать". Поэтому этого дурака я чаще всего могу заблокировать. Я не могу заблокировать внутреннего критика, который говорит: "Это было, это пошлость, это неинтересно, это вообще не надо было писать". То есть я не могу себе раз и навсегда сказать, что я писатель. От этого состояния, Дима, я устал.
– Свойство всех больших писателей, актеров, режиссеров – сомневаться в себе.
– Нет, нет. Большой писатель уверен в миссии. Большой писатель идет, как утюг по глади белья, рассекая вокруг себя ткань. Он уверен, что он осуществляет высокую миссию: "Звать меня Кузнецов. Я один. А остальные – обман и подделка". А я как-то пробираюсь бочком и все думаю: "Ах, ах!"
– Ну хорошо же сказали: "Как утюг по глади белья". Потрясающе же.
– Потрясающе. Но, к сожалению, сам я не могу, условно говоря, воспроизвести манеру этого утюга. Я человек довольно безапелляционный. Что я знаю, то я знаю. А вот насчет себя у меня нет уверенности. Поэтому если ко мне подойдет, например, в Киеве какой-нибудь читатель и скажет: "Ваш последний роман – фуфло", я искренне поверю и скажу: "Ах, простите. Следующий будет лучше".
– Вы знаете, меня часто критикуют за то, что в разговоре со своими собеседниками я бываю чересчур комплиментарен. Ну вот попробовали бы...
– Скажите мне гадость. Скажите. Успокоим, порадуем их.
– Ну вот попробовали бы они, суки, разговаривая с таким писателем, как вы, не быть комплиментарными.
– Да, да, твари.
– Твари.
 Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
– А вы уже стали государственным человеком? Или пока еще журналист?
– Вы знаете, мое государство – это я. Поэтому, конечно, я государственный человек.
– Я все надеюсь, когда у меня друзья, по песне Окуджавы, выбьются в начальство.
– Да, да, да.
– Но если меня задержат на границе, вы же поможете?
– Помогу вам обязательно.
– Дай вам Бог здоровья. Целую крепко.
– Как это Окуджава писал? "Зайду к Белле в кабинет, скажу, здравствуй, Белла"... Я напоследок попрошу вас прочитать что-нибудь из своих крайних стихотворений.
– Ну хорошо. Сейчас. Я давно уже не читал. А поэтому я его помню не очень хорошо. "У младенца соска и подгузник. У России армия и флот. А у меня всего один союзник, лишь один соратник, да и тот – будущее. Все оно исправит, вылечит, расставит по местам. И потомок мой с трудом представит, как я выживал тогда и там. Я его, как сын артиллериста, на себя годами вызывал, а оно придет и воцарится и не спросит, как я выживал. Светлое, как звездное скопленье, сладкое, как первородный грех. Вот оно выходит в наступленье, наступая сразу и на всех. Всех оно накажет – злых и добрых, всех убьет с улыбкой ледяной. И меня, чтоб не мешал мой облик оценить написанное мной. Но оно – союзник ненадежный: слишком сложный, слишком осторожный, может задержаться, протупить, может вообще не наступить, может наступить куда попало, а сюда, допустим, ни ногой. Ибо мы из редкого металла и для нас придуман план другой. Мы по сорок пятой параллели так и будем ехать на осле, потому что всех нас пожалели. И меня, беднягу, в том числе".
– Браво, Дима.
– Спасибо, Дима. Увидимся, дорогой.
Видео: В гостях у Гордона / YouTube