Мы осознавали, что на нашу землю пришли. Но мы думали, что не дойдет до того, что случилось. Думали, что все будет, как в 2014 году
– Аделина, здравствуйте.
– Здравствуйте.
– У нас сегодня не совсем обычное интервью. Мы будем говорить с Аделиной Акимченковой, которая вынуждена была, спасаясь от российской агрессии, уехать из Мариуполя в самые страшные дни. Как это было? Какая история была перед этим? Что у вас в жизни происходило? Вы знаете, когда наши журналисты разговаривали с вами перед этим интервью – ну, волосы шевелятся от некоторых подробностей, о которых вы рассказывали. Вот сколько вам сейчас лет?
– 18 полных.
– Сейчас вам 18 лет. То есть когда пришли русские оккупанты в Мариуполь, вам не было еще 18-ти.
– Мне было 17.
– Но вам не просто было 17 лет. Вы еще были в это время на последних месяцах беременности. Правильно?
– Да.
– Это очень интересная история, друзья. Я просто хочу, чтобы мы все ее с вами послушали. Но я хочу начать с другого. Вы выросли и родились в Мариуполе. Да?
– Да. Я всю жизнь жила в Мариуполе и родилась там.
– Какая у вас семья?
– У меня семья из двух родителей, которые в разводе. Папа жил со мной до 2016 года, а до 17 лет я жила с мамой. Потом я съехалась с мужем. Семья у нас среднестатистическая. У меня есть младшая сестра еще, которой шесть лет сейчас вот исполнилось.
– Где в Мариуполе вы жили?
– Это 17-й микрорайон. Там областная больница еще была, если так ориентироваться, которая по сей день работает – единственная – там, в Мариуполе.
– Красивый Мариуполь город был до того, как русские туда пришли?
– Очень. Честно говоря, ни с какими другими городами не сравнится. Особенно сейчас, когда теряем, тогда начинаем ценить. Это, наверное, тот случай. Мариуполь очень изменился, особенно за последние годы. За года два-три его очень хорошо отстроили. Он был продвинутым городом, для молодежи. То есть для меня это самый лучший город.
– На земле.
– Да.
– Вы любите Мариуполь?
– Конечно. (Смеется). Столько времени там прожила – всю свою жизнь. Очень тяжело сейчас. Сколько уже времени прошло – мне кажется, все равно это никогда не пройдет.
– А что вы сейчас вспоминаете чаще всего? Снится вам дом?
– Да. Мне почти каждый сон мой снится Мариуполь: море снится, драмтеатр, прогулки, потому что часто ходили туда гулять... Очень много всяких воспоминаний, потому что я жила всю жизнь не в одном районе, а в нескольких разных районах. Поэтому у меня очень много воспоминаний.
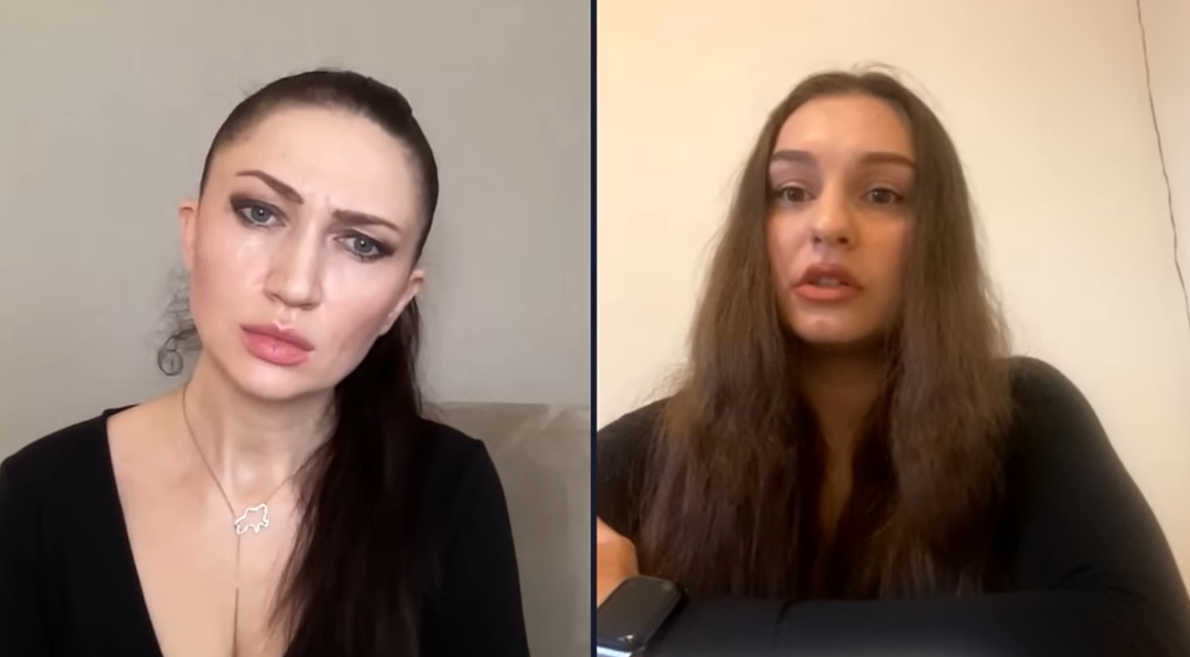 Скриншот: Алеся Бацман / YouTube
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube
– Я бывала в Мариуполе. И как раз перед российским вторжением нас пригласил полк "Азов" на годовщину освобождения от русских. Прекрасный город. Реально очень быстро развивающийся, город для жизни, для людей, зеленый, с красивыми ресторанами, с чистотой сумасшедшей на улицах, с улыбающимися людьми... Я очень хорошо помню Мариуполь. Когда началось российское вторжение 24 февраля, что вы делали? Как вы об этом узнали?
– 24 февраля... Мы снимали с мужем квартиру, мы были в ней. Это было тоже недалеко от 17-го микрорайона. Нам позвонила мама мужа и сказала, что началась война, что военное положение. Мы сразу как-то с мужем не поверили, потому что думали, что это паника просто обычная. Это было часов в шесть, наверное, утра, в полседьмого. Вот так. У мужа папа работал на "Азовстали", и когда мама сказала, что его туда уже не пустили... Он пришел на работу, а ему сказали идти обратно. Мы поняли, что что-то не так. Первым делом все снимали деньги. Я не знаю почему, но все решили, что надо снимать деньги. И там были очень большие очереди в банкоматах. Муж пошел снял деньги, купил памперсы в аптеке, смеси на всякий случай. Ну потому что все уже начали понимать, что происходит, часам к восьми-девяти утра. Везде были очень большие очереди: в магазинах, аптеках, банкоматах – везде. И все, что можно было ухватить, родители где-то ездили, где-то муж... Я все это время сидела дома. Мне было даже страшно просто выходить на улицу. Потому что уже было где-то вдалеке слышно звуки, как что-то где-то бахкает. Мне было страшно даже просто возле окна сидеть.
– Страх был?
– Да, очень сильный. И у меня были опасения: просто даже недели оставались до того, чтобы родить. Да, я очень сильно из-за этого нервничала.
– У вас молодая семья такая, получается. Очень молодая. Как вы с мужем познакомились? Когда?
– Мы с мужем познакомились в 2019 году. Вот. Ну, он меня как-то в Instagram нашел, написал, пригласил в кафе... (Смеется). Вот так и познакомились.
– А вы уже знали, кто у вас будет: мальчик или девочка?
– Да, мы знали, что будет мальчик.
– Когда вам примерно нужно было рожать?
– Срок у меня стоял 3 марта. Но по УЗИ – 22 февраля. Я надеялась, что я рожу 22-го. Я думала именно за это число. Но я 22-го не родила. И я уже планировала на 3 марта. Получается, 24-е число – это был четверг. В понедельник я должна была уже ложиться на сохранение. Я хотела лечь заранее в больницу на левом берегу. Но уже никуда я не легла.
– Опишите, что вы видели, что вы делали, что родственники делали...
– Была очень сильная паника. Поэтому 24 числа я сразу начала уговаривать и мужа, и родителей, чтобы мы поехали куда-то в какое-то убежище. На тот момент драмтеатр был, был "Терраспорт" – это спортзал недалеко. И я не знаю почему. Мне казалось, что там надежнее. Муж отказался сразу. Он сказал, что он не поедет, потому что на тот момент уже начали ходить слухи о мародерстве, о том, что взламывают квартиры. Муж сказал, что он останется дома, в квартире. Я уехала с родителями.
В первый день мы поехали к моей бабушке, которая жила... Между портом и Черемушками – там есть частный сектор. И она там жила в частном доме. Мы туда поехали, хотя там тоже было достаточно громко: это тоже близко к окраине города, как раз там, где аэропорт был. В городе уже была очень сильная суета. Мы пока ехали, очень было много очередей везде. На самом деле людей было достаточно много на улицах: и мужчин, и женщин, и детей. И даже несмотря на то, что уже были какие-то звуки и на тот момент казалось, что это уже очень страшно, никого это особо не пугало, скажем так. Все понимали, что нужно спасать свою семью. По поводу перекрытия дороги на левый берег... По-моему, там сразу поставили блокпост. Там возле "Азовстали" мост, который соединяет два берега. Если я не ошибаюсь, то там сразу поставили патруль: то ли полицию, то ли военных уже. И в принципе по городу стало больше патрулей. ТрО образовалась, которые тоже ходили патрулировали во время комендантского часа.
– Ну а что говорили люди? Что говорили мариупольчане? Сдаваться же никто не собирался?
– Нет, конечно.
– Все собирались бороться. Какое настроение? Сразу же злость на русских? Как тогда – помните? – в первый же день вторжения украинский военный сказал: "Русский военный корабль, иди..." И это стало, собственно говоря, лейтмотивом всей войны. Украинцы не собираются сдаваться. Мы никого не собираемся встречать хлебом-солью. Как мариупольчане реагировали? Что они между собой говорили о русских?
– Ну, уже с первого дня, конечно, были негативные эмоции. Они были не настолько негативные, как в дальнейшем. Потому что мы еще не видели, что может быть. Мы осознавали, что на нашу землю пришли. Зачем – мы не понимаем, не знаем. Но мы думали, что не дойдет до того, что случилось. Думали, что все будет, как в 2014 году, что все обойдется. И очень многие мариупольчане именно так и считали. И особой паники ни у кого не было. Конечно, все поддерживали Украину. Ну как, "все"?.. То, что я знаю.
– Ваше окружение, ваши знакомые.
– Да. Большинство поддерживало Украину. И я лично на тот момент не слышала ни от кого, что "вот мы ждем "русский мир".
Был такой момент, когда всех из палаты начали в коридор выгонять. Я нагнулась взять ребенка, смотрю в окно – летит. Предполагаю, это был снаряд
– Аделина, скажите: когда вы поехали в роддом? Как это уже было?
– У меня просто в одну ночь начались... Я думаю, это схватки, но это, скорее всего, были ложные схватки. Я всю ночь с мамой проходила, еще в ту ночь очень сильные были обстрелы. Мы то в подвал, то из подвала... У нас очень много родственников было.
– И холодно же. Я напоминаю: это февраль.
– Да. То есть уже отопления не было.
– И 17-летняя девочка на сносях. Страшно.
– Ни отопления, ни света. Я как сейчас помню, 1 числа последний раз, по-моему, включили свет. Его сначала отключили, потом включили – и на следующий день его уже отключили бесповоротно. Уже все, больше не было там света. Отопления тоже не было, воды не было. И я, помню, стояла купалась... Я просто до этого еще ездила к врачу. Он сказал, что еще рожать рано – и поэтому "лучше дома посиди". И я помню, когда я стояла купалась под водой, которую нагрели, там, на костре где-то... В общем, я стояла просто и плакала. Потому что это ужасный стресс. Для меня это очень дикие условия.
И, в общем, 2 числа я уже утром поехала в больницу и легла. Потому что я решила для себя, что лучше сейчас, потому что непонятно, что будет дальше. Изначально я думала наоборот: что "лучше сейчас я протяну, чем в таких условиях рожать. Сейчас я протяну – может, закончится все очень быстро". Но я тогда уже поняла, что быстро это не закончится.
– Две-три недели, надеялись, понятно.
– Да. Поэтому я решила, что надо сейчас...
– То есть вы поехали в роддом 2 марта. Это тот самый мариупольский роддом, который был разбомблен россиянами 9 марта.
– Да. Мы приехали. Было очень много девочек. Там я тоже очень много историй наслушалась. Потому что очень многие девочки были с левого берега. Были из-за города, то есть из всяких сел, поселков возле города. Было две палаты, полные беременных, это где-то 16 девочек. То есть отделение делилось на два крыла: в одном были беременные, а в другом – девочки, которые родили и были с детишками. Было холодно, темно. Меня привезли и оставили, а родители поехали дальше сидеть дома. Меня сразу врач осмотрел, сказал, что еще тоже рано. "Но хорошо. Хочешь ложиться – пожалуйста". Особо делать нечего было. В основном девочки все спали целыми днями.
– А как? Просто в одежде? Если холодно. Как там было?
– В халатах, там, спортивных костюмах каких-то... То есть не прямо в куртках, конечно, но да, старались какие-то лосины, футболка, сверху спортивный костюм, халат – что-то такое. Вечером уже полная темнота – все ходят с фонариками до туалета, обратно.
В больнице не разрешали... Говорили не обсуждать тему войны. Просто чтобы не нервничать лишний раз, чтобы панику не нагонять. Поэтому особо девочки об этом не общались. Там была одна девочка – она пятый раз ехала рожать. Она с левого берега. Их остановили на блокпосту возле "Азовстали", где этот мост идет, – и начался обстрел. А она со всеми детьми, беременная, с мужем. Их остановили, и начался обстрел. В итоге она доехала до роддома, ее, по-моему, кто-то подвез. Дети с мужем обратно поехали. Она приехала без вещей – без ничего абсолютно. Ну вот такая тоже... Я же говорю: там было много таких, страшных, тоже историй.
В общем, мы переночевали, на тот момент обстрелы были, их было слышно, было страшно, но из-за того, что не было вот этой паники, оно было проще, я так считаю. Это очень хорошо, что врачи не разгоняли эту панику, не разрешали об этом говорить. И 3 числа утром я проснулась, пришел врач на осмотр всех девочек и предложил мне, что если я хочу рожать, я могу выпить таблетку, которая вызывает схватки, – и пойти рожать. Я согласилась, потому что я лежать там тоже не планировала сильно долго. Я была уже готова даже на это. Я пошла, выпила таблетку – меня сразу перевели в родовую комнату. И все это время я была там. Утром пришли мама с мужем. Они поговорили с врачами, что я еще не родила, все нормально. И дальше пошли по своим делам. Муж мой в то время – это я потом узнала – помогал Красному Кресту, помогал врачам. Потому что главврача отделения зять, по-моему, солярку поставлял в больницу, чтобы генераторы работали. В общем, мой муж тоже чем мог, тем помогал: что-то принести, унести...
И я все это время была одна в палате, ходила возле окошка, слушала, как там звуки эти все... Я потом рассказывала и смеялась еще: когда лежала рожала, были очень громкие звуки, и пошел небольшой снег, и пришел врач посмотреть, не родила ли я еще, и стоял возле окна смотрел, тоже прислушивался... Я думаю: "Нет. Если что-то будет лететь, он же мне скажет, что мне делать, куда мне деваться". Такие мысли.
– А вы не спускались в бомбоубежище там?
– Нет. Девочек старались не гонять. Насколько я знаю, по желанию: если ты хочешь, ты можешь спуститься. Но прямо так не гоняли.
– Вы родили 3 марта?
– Да.
– Все нормально, благополучно?
– Да, я родила хорошо. Я вот в 8.00 пошла рожать – и в 13.25 я уже родила. У нас одновременно пять девочек рожали.
– Несколько дней оставалось до того, как роддом был разрушен русской ракетой. Когда вы уехали оттуда?
– Я уехала на следующий день: 4 числа.
– Так быстро?
– Да. На следующее утро ко мне пришел врач, спросил, буду я сегодня уезжать или я хочу еще три дня. То есть по желанию: "Если вы хотите, вы можете уехать сегодня. Если нет – можете лежать три дня или сколько вам нужно". У меня не было никаких противопоказаний. Я могла уехать. Я не знала, что ему ответить, потому что связи никакой нету. И я не знала, приедут за мной сегодня или не приедут за мной сегодня, как это будет... Я не знала.
– Мобильная связь уже не работала. Да?
– Нет. Нет. Со 2 числа все вообще отключилось: вся инфраструктура. И я ему сказала, что если за мной приедут, я поеду сегодня. Вообще утро началось с 6.00, когда начали очень сильно бомбить. Это уже где-то возле центра прилетало. И я лежала с девочкой вдвоем в палате. Она была ближе к окну, а я – ближе к двери. И был такой момент, когда всех начали в коридор выгонять, потому что девочек не в подвал, а в коридор просто выгоняли, между двух стенок чтобы быть. И я встала сама, и взять ребенка нагнулась. И я смотрю в окно, которое передо мной прямо, – и летит... Я предполагаю, что это был какой-то снаряд. То есть что-то вот такого размера, огненное... Я сначала думала, что мне показалось, но я в этом сомневаюсь. Оно летело где-то возле двора роддома в сторону центра на низкой высоте. Я не знаю, что это было. Но я тогда очень сильно испугалась – у меня был ступор. Я быстро схватила ребенка, выбежала в коридор. Там куча девочек стоят, стены трясутся, потому что очень громко было. Стены, окна – все трясется. И так мы стояли, наверное, до часов 8.00. То есть мы несколько часов там простояли с девочками.
– Как малыши воспринимали все это?
– Все по-разному. Допустим, у меня ребенок не плакал, достаточно спокойно. И все время даже потом, которое мы там находились, – относительно спокойно. Другие малыши плакали. Где-то кому-то смеси не хватало, у кого-то ребенок грудь не брал... То есть было тоже очень много проблем у девочек. Помогали всем, чем могли. И врачи в том числе. Врачи, я знаю, приносили еду, если где-то недалеко жили, что-то дома готовили: на костре, я имею в виду. Где-то старались помогать девочкам, еду сами приносили. Кто хочет, тот берет.
– Как вы назвали ребенка?
– Артур. Мы изначально планировали.
После обстрела роддома я несколько раз переспрашивала у мужа: "Это прямо возле него? Может, где-то подальше?" Он сказал: "Все, роддома там нет"
– Аделина, вы уехали 4 марта из этого роддома. Там остались тоже те роженицы, которых вы уже узнали за это время, со своими детками. И 9 марта туда прилетела российская ракета. Мы все помним эти кадры, этот ужас. Что вы почувствовали?
– Мне об этом сказал мой муж. Мы на тот момент еще были в Мариуполе. Тоже никакой связи – ничего. Мы об этом и не узнали бы. У меня просто муж часто ходил куда-то в город, потому что там родственники где-то, друзья. И он часто туда выходил. И вот он в один из дней пошел вот так. И пришел, и сказал, что в роддом попали. Я не представляла на тот момент масштабы. Это было для меня очень страшно. Ну, у меня это в голове просто не укладывалось. Я не знала, как так могло произойти. Я несколько раз переспрашивала: "Это прямо возле роддома? Может, это где-то подальше?" "Нет, – он сказал, – Все, роддома нет там".
– А когда мариупольский драмтеатр разбомбили – то место, куда вы хотели тоже ехать как в убежище, где было написано даже "Дети"... До сих пор мы не знаем, сколько жертв там. Сотни мирных жителей, деток украинских, которые погибли. Тот театр, куда вы ходили, где вы любили бывать... Что вы подумали, когда об этом узнали? Я так понимаю, вы об этом узнали, уже когда вам удалось выбраться.
– Это был тот день, когда мы выехали. Это был ровно тот день. Наверное, в этот момент уже началась злость, которая даже не злость – ненависть. Когда ты уже не понимаешь, насколько нужно быть бесчеловечными. У тебя это в голове не укладывается: чем люди руководствуются, как это происходит... Первое время, когда это все происходит, ты это, можно сказать, не осознаешь. Тебе кажется, что, может, не настолько все глобально. И потом, когда ты уже садишься, смотришь фотографии, смотришь число погибших – примерное даже, сколько там людей находилось, – и ты думаешь: "А как? Если бы мы туда поехали, непонятно, что было бы дальше". Никто не имеет права отнимать жизнь просто так у тысячи людей. Я не знаю. Честно, я не знаю, как описать это состояние.
– Ненависть к русским оккупантам.
– Да. Я даже не знаю... Для меня с тем, что они делают каждый день, это уже даже больше чем ненависть. Я уже не нахожу слов. Я уже, наверное, около полугода просто не знаю слов, как объяснить, насколько я их ненавижу.
– Скажите: вот за все это время вы часто плакали?
– Я, наверное, за первые месяца три или даже больше плакала почти каждый день. Потому что где-то какие-то видео, где-то какие-то фотографии, воспоминания, разговоры со знакомыми, друзьями... По сей день... Ну, сейчас уже не так часто, но я, там, могу ехать слушать музыку где-нибудь в метро, которая у меня ассоциируется с Мариуполем или каким-то местом в Мариуполе, – и я могу начать плакать. Потому что это неконтролируемые эмоции.
– Вот сейчас вы в безопасности: вы в Швеции. Сейчас все относительно нормально. Но то, как вы выбирались из Мариуполя... Он уже, кстати, тогда оккупирован был или нет? Когда это было? Это тоже отдельная история, которая заняла очень большой период. Более того, вам пришлось выезжать, я так понимаю, через Россию. Расскажите об этом.
– Мы выехали 16 марта. Выезжали мы, когда город был частично оккупирован. То есть некоторые районы были уже оккупированы, но не целиком. Выезжали мы через Урзуф, в ту сторону. Мы ехали в сторону Бердянска, Запорожья – в ту сторону.
– То есть вы хотели в Запорожье попасть все-таки?
– Изначально мы ехали с этой, да, мыслью. Нам уже там и жилье предлагали – все такое. Мы ехали с этой мыслью. Но, во-первых, я когда родила – я не помню, говорила я или нет, что у ребенка не было никаких документов. Ему ничего не дали абсолютно, никакую бумажечку. И мы ехали как бы без ничего. Но на тот момент это было не самое главное, как мы считали. Потому что надо было жизнь спасти. Мы выезжали: отчим, я, моя мама и моя младшая сестра, и ребенок. Муж, бабушка, дядя у меня там был...
– Сестре младшей шесть лет. Да? То есть тоже маленький ребенок.
– Да. На тот момент ей пять было даже.
– Пять лет. Боялась? Как она переносила? Плакала?
– Она плакала. Конечно, ей было очень страшно. Она не могла себе в доме найти места, потому что и холодно, и есть... Как бы было у нас что поесть, но это ребенок: ему это хочется, а это не хочется... Конечно, приходилось есть то, что есть. Тоже тяжело переживала. У нее сейчас до сих пор стресс на фоне этих нервов, которые были.
У ребенка не было документов. Российские пограничники говорят: "Не можем вас пропустить". Я говорю: "Ну как не можете, если это тот роддом, который вы же и взорвали?"
– То есть ребенок до сих пор не отошел, не пришел в себя?
– Да. У нее до сих пор нервы, скажем так, шаткие. Она не может адаптироваться. Но это так, если внешне видеть. Изначально мы не планировали далеко ехать, надолго ехать. Потому что даже на тот момент оставалась какая-то вера, что это скоро закончится. Я не знаю почему. И у многих это так было: думали, что "ладно, еще неделя, еще неделя". И так вот каждую неделю было. И мы выезжали – и даже особо никаких вещей не брали. То есть прямо вообще почти ничего.
И когда мы уже выехали в Урзуф, там был уже какой-то распределительный центр. Там нам дали жилье. Потому что мы пока выехали, пока... Там было очень много машин. Фильтрации на тот момент никакой не было. Просто стояли блокпосты русские. Это было чуть дальше за городом, уже возле сел, которые были близко. Просто проверили паспорта – и все. Даже ничего такого. В Урзуфе нам дали дом с двумя комнатами. Там была наша семья и еще одна семья, которая тоже выезжала из Мариуполя. Вот им тоже дали этот же дом. То есть две комнаты на две большие семьи. Мы там были два дня. И эти люди уже собрались уезжать, они тоже на машине. И мы. Мы решили все вместе ехать, колонна у нас из трех машин получилась. И просто в тот день, когда мы собрались выезжать, мы доехали до Бердянска, и был обстрел колонны, которая ехала на Запорожье. Это был один из таких моментов, который нас остановил. Мы ехали и еще сами до конца не решили, куда мы поедем, в какую сторону. Ну, в Запорожье, я же говорю, нам уже и жилье предлагали, и все такое. Но был обстрел колонны, которая ехала в сторону Запорожья, и было, конечно, очень страшно. Мы побоялись туда ехать.
В Россию... У меня папа – гражданин Российской Федерации с 2016 года. И он, конечно, хотел, чтобы меня туда привезли с его внуком. Он тоже переживал и хотел, чтобы мы туда приехали. И поскольку это произошло, мы все-таки решили ехать в ту сторону, как-то выезжать. На тот момент то, что нет у ребенка документов и это все, – мы надеялись, что они как-то закроют на это глаза, что хоть какая-то человечность... Мы объясним ситуацию – и все будет нормально. Но не тут-то было. На границе пограничники начали проверять документы. Нас пропустили без очереди, потому что мой отчим вышел покурить, и ехала машина военная в сторону пограничников, и он попросил, чтобы нас провели, потому что "ребенку несколько недель и мы не можем здесь стоять, скорее всего, всю ночь". Они нас провели туда. Мы думали: "Сейчас мы быстро им объясним – и проедем – все нормально будет". Они нас остановили, начали проверять документы. А у ребенка документов нет. Они говорят: "Мы не можем вас пропустить". Я говорю: "Ну как, не можете, если это тот роддом, который вы же и взорвали?" Мы на тот момент думали, что у ребенка реально ни документов – ничего не осталось. Мы говорим: "Там ничего нету. У нас ничего нету". – "Нет, мы не можем". Вот так вот мы стояли часа четыре...
– Извините, Аделина. А когда вы сказали русским военным, что "вы взорвали украинский роддом", что они вам сказали?
– На что мне ответили: "Это тот роддом, в котором нацисты сидели?" Ну я уже начала плакать. У меня просто истерика была – я уже начала взахлеб рыдать. Я говорю: "Какие нацисты? Вот мой ребенок. Он нацист, по-вашему, или что?" Вот эта фраза... Я говорю: "Там роженицы были. Какие нацисты? Там были девочки, которые рожали. Вот мой ребенок. Он что, нацист? Я нацист?" Они ничего не ответили, развернулись и ушли советоваться.
В итоге я на тот момент тоже уже думала разворачивать машину и ехать в другую сторону, потому что это очень было морально тяжело. И я была к этому, скажем так, не готова. В итоге все-таки как-то они там договорились, что нас отправили в Джанкой. Это приграничный город в Крыму. Автобусом. Нас высадили из нашего автомобиля. Автобусом. Это была школа, в которой были такие люди, у которых какие-то проблемы с документами были – какие-то такие проблемы. Этот автобус стоял прямо возле границы. Там собирали людей – и потом в одно и то же время отвозили. Поскольку мне на тот момент не было 18-ти – соответственно, мама сказала: "Я поеду с ней". Соответственно, это еще и моя младшая сестра. То есть я, мама, сестра и мой ребенок ехали в автобусе, в котором просто люди друг на друге сидели, в Джанкой: в эту школу.
Пока мы туда приехали, это уже был, наверное, час ночи. Двенадцать или час ночи. Нам сказали, что "утром придет сотрудник из паспортного стола – и тогда уже будете решать". Меня на границе еще встречал папа. Он ехал из Ставропольского края. Он прямо на границе нас встречал. Вот. И он сказал, что "мы утром разберемся". Для меня это тоже было морально тяжело, потому что в этой школе маленький спортзал, в котором куча детей разного возраста, которые тоже плачут, моего будят ребенка, я его не могу уложить... Я просто все это время плакала. Ты чувствуешь, как будто ты овощ, вообще без никаких эмоций. Ты уже плачешь даже не взахлеб, а просто у тебя текут слезы. Других эмоций нет. Вот.
– И вы поехали в итоге к вашему отцу. Да? Где он живет?
– Да. Утром пришел уже человек из паспортного стола. Папа с ним поговорил, потому что он тоже видел мое состояние – что я там не хочу оставаться. И попросил, что мы сейчас уедем – и уже на месте, где он живет, разберемся – сделаем то, что нужно. Нам сказали: "Хорошо. Едьте". Вот мы все и поехали. Мы ехали несколько суток, наверное, потому что с остановками, потому что тяжелая дорога.
– На машине?
– Да. Ну, наша машина и папина машина. Двумя машинами.
– А где именно он живет? Какой регион?
– Это Ставропольский край. Это поселок городского типа, город Новопавловск.
– Аделина, ну вот интересно... Вы приехали в Россию к вашему отцу, я так понимаю, в его семью новую. Правильно?
– Ну, у него не новая семья. Он живет с моей тетей, бабушкой. То есть у них там квартира большая.
– Полный набор. Родственники ваши.
– Да. То есть это полностью мои родственники по папиной линии.
Папа мне сказал: "Сейчас же все нормально". Говорю: "Я же могла там умереть. Если бы меня там убили, ты бы никого в этом не винил? Или Украину винил бы за то, что русские пришли в мой дом?"
– В принципе, у многих людей в Украине есть родственники в России. И вот тут самое интересное – эти отношения между родственниками. Вот вы приехали, "нацистка", которую чуть не разбомбила российская бомба в роддоме вместе с их внуком маленьким, еще крошечным. И что вам ваша там родня – русские, которые вас типа "спасли" сейчас – вот что они вам говорили? Они понимают сейчас и тогда они понимали вообще, что [президент РФ Владимир] Путин и все, кто его поддерживают, натворили и творят? Либо они полностью обдолбаны пропагандой? Это же между вами разговоры были. Это же не публично. Вот что там происходило?
– Я тот человек, который очень близок с папой. У меня хорошие отношения с ним и со всей его семьей были. С папой мы по сей день общаемся. Для меня было очень большое удивление: непонимание того, что произошло. То есть, люди – да, они за меня волновались, они переживали, все новости смотрели, что происходит. Но они-то смотрели с той стороны, скажем, с той колокольни, с которой им преподносили. И когда мне папа сказал один раз, что "сейчас же все нормально"... Я говорю: "Ну так я же могла там умереть". – "Но сейчас же ты здесь, и все нормально". Я была в шоке, в недопонимании, как человек может не осознавать. Я говорю: "То есть если бы меня там убили, ты бы никого за это не винил? Или Украину винил бы за то, что русские пришли в мой дом? Я этого не понимаю". Я старалась это не обсуждать. То есть поначалу – да, мы из-за этого очень много ссорились. Но потом я перестала, потому что я поняла, что это просто бессмысленно. Честно, это просто бессмысленно: что-то объяснять. Найдется тысяча и одна какая-то отговорка, почему и как, лишь бы не Россия виновата.
– Вы считаете, он искренне этого не понимает? Он искренне поддерживает Путина? Или он просто боится, может, что, там, – не знаю – его посадят... Ну вот что это? Хорошо, когда он не знал. Допустим, он верил [российским пропагандистам Владимиру] Соловьеву, там, [Ольге] Скабеевой. Но приехали вы: живая картинка, его дочь с его младенцем-внуком. Ну вы же ему рассказали.
– Я вам больше скажу. У меня папа до 2016 года жил в Мариуполе с шести лет, по-моему. То есть он тоже очень долгое время прожил в Мариуполе. Он застал 2014 год, 13-й...
– Я понимаю его взгляды, если он в 2016-м взял и уехал в Россию. То есть все понятно с ним. Но когда вы...
– На тот момент он был, скажем, вне политики в принципе. Он особо этим никогда не интересовался. То есть он уехал не потому, что он хотел именно в России жить. У него там была семья: моя бабушка – его мама – и сестры его были там. И он из-за этого в большинстве уехал. Как сказать? Он не прямо поддерживает Путина. Ну, в том плане, что он не говорит, что Путин молодец, что он это сделал, Путин классный. Они в большинстве случаев говорят просто, что у нас плохой президент, "это же комик – как его вообще могли поставить? Это марионетка Америки"... То у них Америка виновата, то НАТО, то еще кто-то. Постоянно кто-то виноват, а Россия не виновата.
Мне прямо не говорилось, что "мы пришли вас спасать". Какие-то намеки: тонкие. На что я отвечала: "Ну хорошо. От моего дома вы спасли меня? Или как получается?" То есть было очень много разговоров. Они, конечно, переживали за меня, что "вот люди же не виноваты". За драмтеатр, за наших военных в том числе: что они типа бедные...
– Аделина, а вот то, что почему-то вдруг российская армия оказалась на территории суверенного государства Украина и там убивает мирное население, и бомбит роддомы, драмтеатры, – это нормально? Как они это оправдывают? Это вообще в концепции, там, Америки... При чем тут Америка? Это все как-то стыкуется?
– Я скажу, как это выглядит в их глазах, как они это видят. Это я потом у себя в голове сложила картинку. То есть русские пришли нас "освобождать" и продвигать территории, потому что "сколько обстреливали Донецк... Целых восемь лет обстреливали Донецк, эти села... А там столько деток умирало... Ты сейчас за Мариуполь говоришь, а сколько там они детей убивали?". Это было вот так. "Мы пришли, потому что Путин сидел терпел восемь лет, но вот вы захотели в НАТО вступать... Зеленский сам на этот шаг подтолкнул, поэтому к вам пришли".
– Ой, вcе понятно. Короче, бесполезная история. И вместо мозгов... Даже не хочу сейчас ругаться. Хорошо. Вы в итоге приняли решение... Ну понятно, в такой атмосфере, в такой обстановке. И вы оказались в Швеции. А почему именно в Швеции?
– У меня сюда изначально уехала мама. То есть мы выезжали все вместе. Мы приехали туда 20 марта. И уже через неделю приехал мой муж, потому что он же оставался в Мариуполе. Приехал мой муж сам, а родители, то есть мой отчим и мать, и сестра уехали в Швецию. Потому что мама выбирала страну: в плане, если начнется третья мировая, где будет безопаснее. То есть мысли уже были такие, глобальные.
– Ваша мама обстоятельно подходит к вопросу.
– Да. И она решила, что Швеция – самый неплохой вариант. И они сюда тоже через Латвию, по-моему, как-то машиной, паромом приехали. Они здесь уже год.
– А как ваша сейчас жизнь в Швеции организована? Чем вы занимаетесь? Чем ваши дни наполнены?
– Я в основном сижу с ребенком дома. Муж работает. Сейчас я хожу еще на курсы по английскому, потому что шведский я не особо хочу изучать пока что. Потому что я не знаю еще, как мне планировать свою жизнь в дальнейшем. Как бы уже пора, конечно, но я все равно не понимаю. У меня еще нету спокойствия какого-то душевного. Поэтому я не знаю, буду ли я здесь оставаться, буду ли я куда-то переезжать, ехать в Украину. Я еще сама до конца не знаю. Поэтому я решила, что лучше пока учить английский, подтягивать его. Потому что он везде все равно пригодится. Я никуда здесь не поступала. Возможность такая была, но пока что я не планировала.
– Аделина, вы сказали, что вы пока не понимаете. Но по вашим ощущениям и желаниям, после победы вы бы хотели вернуться в Мариуполь, домой?
– Я бы, с одной стороны, хотела, но я еще морально к этому не готова. Поскольку я была беременной и, как мой муж, допустим, тот же, я не выходила особо куда-то и я не видела город. Я видела его в большинстве случаев на фото, видео в интернете. Это – как бы да. Сама я что-то видела, но это было не настолько, насколько он сейчас в таком состоянии. Поэтому я морально еще не готова даже просто туда поехать. А возвращаться жить – тоже, наверное, нет. Потому что идти и думать, что "где-то здесь кто-то погиб, кого-то здесь закопали..." Там весь город был в трупах, могилах...
– Вы видели это?
– Я лично этого – нет, не видела. Я же говорю: из-за того, что я была беременна и потом родила, я этот промежуток в основном сидела дома, выходила на улицу, а там, где бабушка живет, пять домов – и все.
– Вы знаете, по разным оценкам, говорят о том, что где-то 100 тысяч мирных жителей-мариупольцев могут быть за этот период уничтожены россиянами. Мы не знаем. Эта цифра может быть и больше. То есть это как с Бучей, где после освобождения украинскими войсками жуткие открылись преступления российских оккупантов: то, как они издевались, как они насиловали, как они пытали людей... По Мариуполю даже сказать страшно. Потому что то, что мы видели тогда еще по кадрам из полуоккупированного Мариуполя, когда просто на улицах лежали тела людей, негде было хоронить, – братские могилы... И сейчас то, что рассказывают мне те, кто имеет какую-то связь с теми, кто в городе остается, – идут глобальные стройки на костях мариупольцев.
– Да.
– То есть вот, они говорят, экскаватор работает и поднимает землю, а она не черная, а она такого, рыже-телесного какого-то, цвета из-за того, что это останки людей. Все в трупах, в костях. И на этом они строят дома. И люди там дальше живут. Скажите: а вот что вы знаете? У вас же кто-то там остался в Мариуполе, какое-то общение есть. Вот что люди говорят? Что сейчас русские там делают?
– У меня очень много... Ну как... Относительно много. То есть самые близкие подруги остались там либо уехали в Россию.
– Да вы что! То есть они такой выбор сделали?
– Да. Так же я не понимаю. Потому что ладно – не понимать тех, кто сидит и из телевизора смотрит, а когда люди с тобой в одном городе находились, когда видели то же самое, что и ты, – и потом вот так делают... И еще особенно те, кто больше всех кричит, что "это наши военные стреляли по нашим". И особенно те люди, у которых есть друзья, знакомые, которые служат, и они это говорят – я этого, наверное, никак и никогда не пойму. У меня – да, там подруга осталась. Тоже очень много историй. Они стараются это, скажем так, идеализировать в том плане, что "вот сейчас здесь строится, тут такой магазин есть... Тяжело, конечно. Не так, как было. Но типа хоть что-то, хоть как-то, потихоньку, восстанавливается город". Ну как он может восстанавливаться, если там весь город разрушен?
– А причинно-следственная связь не работает: что это же русские разрушили все, отобрали, а теперь типа они восстанавливают?
– "Ну здесь мой дом... Вот так уже случилось". Как-то вот так.
Путину желаю скорейшей смерти. Какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало
– Понятно. Хорошо. А когда Путин приезжал недавно – помните? Так, трусливо, боязливо, под покровом ночи – в Мариуполь... И такая картина была якобы с местными жителями. Наверное, это местные жители, потому что...
– Это местные жители, да. Там потом в чатах писали, что это, там, "моя соседка". Что-то такое.
– Это, конечно, было отвратительно: как они перед ним... Это из серии, знаете, как синдром жертвы: когда террорист берет в заложники, а потом еще жертвы влюбляются в своего террориста. Очень тяжело, сложно смотреть на это все. Но на фоне этого видео, где он с ними возле подъезда общается, одна женщина какая-то героическая выкрикнула: "Это все неправда. Это постанова. Не верьте!" – что-то такое. Она это сделала, понимая, что ее могут найти, повязать, на подвал бросить – что угодно сделать. Но тем не менее есть наряду с такими, которые были перед ним и пресмыкались, – есть и люди абсолютно смелые, которые там остались. Вот когда вы смотрели эти кадры, какие у вас чувства были? Что вы думали? Что вы чувствовали?
– Ты думаешь, это твой город или... Ты уже не видишь того города, который был. Только когда пересматриваешь свои фотографии в галерее: возле того же драмтеатра, набережную... Я очень любила снимать город, фотографировать. И ты просто смотришь эти кадры – и я очень часто не узнаю места, улицы, дома, где это находится. Я также с подругой когда разговаривала по WhatsApp недавно, которая там, – она мне показала место, где я прожила до 13 лет. Это возле бабушки, это порт был. Там, где какие-то дома разрушены, которые уже снесли там есть... Очень много разных домов. И я смотрю на эту картину – и я просто не узнаю того места. Я просто не понимаю, где оно находится. И так очень со многими. Те же Черемушки – там просто уже ровно. И у меня очень смешанные чувства. Потому что я не верю. Это уже не мой город. Такое уже сразу ощущение, что это уже не мой город. Мой город был такой красивый, достойный... Ты просто не думаешь, что это твой город.
– А правда, что русские сделали водку одним из самых дешевых товаров в магазинах, чтобы, собственно говоря, население занималось тем, что бухало, а не что-то думало себе и пыталось как-то бунтовать?
– Я, честно, не знаю по поводу именно водки. Не слышала такого. Возможно, это и так, потому что людей там, которые стали выпивать, стало в разы больше. Очень много. Почти все. Потому что – как там по-другому жить? Очень много, да. Это я еще слышала буквально сразу, как только там русский флаг уже полностью был и как начали люди уже какие-то выходить на улицу. И по сей день постоянно увеличивается число таких.
– Что бы вы хотели пожелать Путину?
– Скорейшей смерти. И я даже не знаю, как этот человек должен умереть, чтобы ощутить на себе все то, что переживали другие люди, которые умирали от его слов, действий, приказов. И я, честно, не знаю: какую бы ужасную смерть я ни представляла – мне кажется, этого мало.
– Аделина, а что бы вы хотели пожелать тем россиянам, которые поддерживают Путина?
– В первую очередь, наверное, мозгов, которых у них нет. Права выражать свое мнение. Этого просто, наверное, у 90% людей там не существует. Желать смерти, еще чего-то – честно, я не вижу никакого смысла. Потому что это все люди, которые пересмотрели телевизор, им это очень хорошо внушили. И единственное, что можно пожелать, – здравого рассудка и мозгов.
– На ваш взгляд, какой Украина будет после победы? И как вы думаете, когда мы победим?
– Конечно, хочется верить, что как можно скорее. Наши парни очень стараются там, ложат свои жизни. Понятное дело, очень хочется, чтобы это все быстрее закончилось, чтобы победа быстрее была. Но смотря на всю ситуацию... Как мы изначально думали: неделя, две недели... А это уже больше года. Точных прогнозов я не могу дать, но мне кажется, что это будет в ближайшее время. Я надеюсь, что в этом году, как можно скорее.
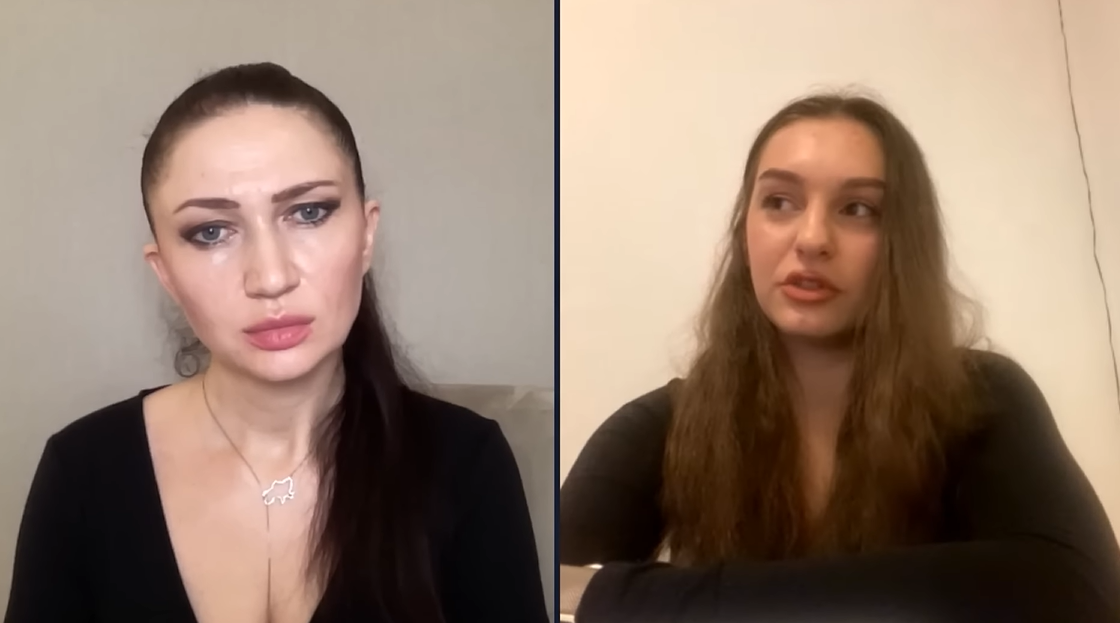 Скриншот: Алеся Бацман / YouTube
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube
– А вы бы хотели вернуться в Украину? По Мариуполю мне понятно. А – не знаю – жить в Киеве, жить во Львове, жить в Одессе...
– Эти мысли меня до сих пор посещают, потому что у меня много там тоже друзей осталось: в Киеве том же, в Харькове. И поэтому меня эти мысли посещают. Я еще не знаю. Я точно не определилась. Это как вариант моих дальнейших действий. После окончания войны все может быть.
– Вы будете своему сыну рассказывать подробно, что произошло с вами, с ним, с Мариуполем цветущим, красивенным, когда пришли русские, как вообще все происходило, как вы выбирались и как Украина борется за свою свободу и свою независимость в сегодняшней войне?
– Да. Конечно, я буду ему это все рассказывать, передавать, показывать. То, что возможно: какие-то фотографии, видео. Я хочу, чтобы мой сын знал историю того места, где он родился. Потому что я считаю, что мой сын родился в украинском Мариуполе. Да, он там не вырос, не живет и не будет, скорее всего, жить, но я хочу, чтобы он знал место, в котором он родился.
– Аделина, спасибо вам большое. Спасибо, что доверили, рассказали вашу историю. Я желаю вам удачи, я желаю вам счастья, я желаю нам, чтобы мы как можно скорее победили, чтобы Украина победила насколько это возможно быстро, чтобы и наши ребята и девушки на фронте, и мирное население не гибли. Потому что у нас, с нашей стороны, гибнут лучшие, а русские посылают на войну в основном отребье, очищая тюрьмы. Поэтому сомнений в том, что мы победим, нет. Только хотелось бы, чтобы это было как можно скорее. Спасибо вам. Слава Украине!
– Спасибо. Героям слава!















